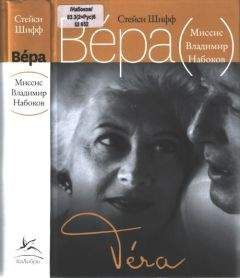При всей уклончивости Вера вполне отдавала себе отчет в важности того, что скромно называла обычной помощью, но что недоброжелатели расценивали как ее особое воздействие, особое влияние на Набокова. По крайней мере одному близкому человеку Вера открыла свое понимание всей важности этой роли. Многие годы спустя средняя дочь Лео Пелтенбурга писала ей: «Помнишь, в Берлине, ты сказала, что кто-нибудь должен написать книгу о том влиянии, которое женщина оказывает на мужа, то есть стимулирует, вдохновляет его». И Вера, и ее муж восхищались стихотворением Мюссе «Майская ночь», в десяти строфах описывавшим, как терпеливая, но настойчивая муза вдохновляет унылого поэта. Как пишет Набоков в своем дневнике 1951 года, «В[ера] говорит, что если бы Мюссе писал свои „Ночи“ в наши дни, то разговор бы шел между поэтом и его секретаршей». Когда в Берлине отец Веры расспрашивал Набокова о его творчестве, он, как правило, именовал это «их работой», включая в процесс и дочь и, возможно, тем самым отражая собственное понимание ее роли. Вера никогда не противилась тому, чтобы ее считали музой Набокова.
В октябре 1930 года она от имени мужа печатает на машинке письмо Струве: «Мы с женой пытаемся переехать в Париж — в довольно бодром темпе». В музыке Набоков не был силен и путал адажио с аллегро. После его поездки в Париж в 1932 году переезд во Францию регулярно обсуждался. В марте 1933 года супруги получили визу, однако в ту осень остались в Германии, вероятно, из-за Вериной беременности. В августе Владимир объявил, что они уедут по окончании зимы; весной рождение Дмитрия полностью нарушило их планы. Позже Вера говорила: «С момента, как Гитлер захватил власть, мы начали готовиться к отъезду», тому самому, на который она упорно не решалась, даже тогда, когда совсем мало русских оставалось в Берлине. Ее по-прежнему заботила проблема заработка. В начале 1935 года она подрядилась просматривать иностранную корреспонденцию для машиностроительной фирмы «Рутшпейхер», производившей тяжелое оборудование; работа основывалась преимущественно на знании английского. Вере приходилось переводить огромное количество технических документов, ради чего, собственно, ее и взяли на это место. До или сразу же после рождения Дмитрия Вера уже осмелилась разработать и попыталась запатентовать свой вариант средства боковой парковки автомобиля — убирающееся колесо, крепящееся поперечно к автомобильной раме. Связанное с двигателем, это колесо могло опускаться, выводя машину в желаемое положение. Вера направила свое изобретение из Берлина в фирму «Паккард». Соль не в том, что она выступила с подобной инициативой, а в том, что Вера обратилась к проблеме автомобильной парковки, еще не научившись водить машину.
Примерно к этому времени относятся воспоминания Набокова о том, как он ходил с Дмитрием гулять в Груневальд; пока Вера была на службе, Владимир присматривал за сыном. «У Веры по-прежнему нет ни минуты свободной, я помогаю как могу»#, — писал он матери. Место в фирме «Рутшпейхер» оказалось недолговечным, так как через четыре месяца после Вериного прихода нацисты уволили хозяев фирмы — евреев, а вместе с ними и всех сотрудников. Теперь более чем когда-либо Набоковы нуждались материально. «Мне порядком надоели эти постоянные денежные затруднения», — сетовал Набоков в мае 1935 года, вскоре после десятой годовщины их совместной жизни. Они с Верой, при том что сильно утомлялись, не переставали радоваться первым успехам маленького Дмитрия, которого обманным путем учили ходить ни за что не держась. Малыш соглашался топать сам, только хватаясь за деревца и кустики; тогда родители совали ему в ручку веточку, и мальчик делал шаги, сжимая ее в руке. В восьмимесячном возрасте Вера принялась учить Дмитрия названиям растений и деревьев, что всегда служило признаком образованности в семействе Набоковых. Примерно в это же время Вере пришлось принести новой власти в жертву не только работу. Поскольку нацисты установили строгие нормы по части ношения оружия, Вера решила отослать свой пистолет в Париж с помощью друга из французского посольства. Дорога туда обернулась тяжким испытанием. Вера отправилась днем через весь Берлин, чтобы передать пистолет в посольство. Ей пришлось пережидать в такси очередное шествие нацистов. Проходя мимо, демонстранты стучали в окна машины, гремя жестянками для сбора средств и требуя денег. Пряча под одеждой пистолет, Вера сидела в машине с отсутствующим видом, притворяясь, будто не слышит.
Оценка степени бедности Набоковых — вопрос неоднозначный. Вера горячо возражала против однобокости подхода: «Особенностью эмигрантской жизни было то, что даже люди, жившие много хуже нас, никогда не позволяли себе хоть сколько-нибудь тяготиться финансовыми проблемами». Она утверждала, что и ее отец не вдавался в обсуждение материальных проблем, даже после того, как оказался полностью на мели. Пусть это никогда ими не обсуждалось, но нищету, испытываемую Набоковыми в разное время, можно назвать и благородной, и независимой, и достойной, и крайней. Надо отметить, по части нищеты они не были одиноки. Мало кто из эмигрантов мог похвастать лучшей участью. В Париже многие уже голодали. (И опять-таки Набоков имеет на это свой особый взгляд. «Мне, понимаешь, нужны удобства не ради удобств, а затем, чтобы не думать о них»#, — пояснял он Вере в начальный период их отношений.) И звезда его разгоралась все ярче, по мере того как денег становилось все меньше и меньше. Было, конечно, замечательно, что Альберт Пэрри провозгласил в «Нью-Йорк таймс», имея в виду Набокова: «Наш век обогатился появлением великого писателя». Но правда и то, что у писателя не было тогда даже пары приличных брюк. А для Веры закончился период стабильной работы. Ввиду ее национальности ей не выдали разрешения на работу после службы в «Рутшпейхер». Набоковых ожидало весьма суровое будущее.
Неизменно, в особенности в первые годы своей жизни, когда с финансами у семейства обстояло хуже не придумаешь, именно Дмитрий составлял основное богатство супругов Набоковых. В гитлеровском Берлине Вера с Владимиром пестовали сына, окружая его, как коконом, русскоязычной атмосферой; так он рос под бдительным оком матери в непосредственной близости от уютно-шелкового присутствия отца. Укутанный в мех, Дмитрий раскатывал по Берлину в коляске, как в «роллс-ройсе», используя выражение одного поэтически мыслящего водителя такси. Мало кто из матерей удостаивался такого изысканного воспевания, какое получила Вера в автобиографии мужа; Набоков пел дифирамбы неустанной заботе, проявляемой Верой к питанию и здоровью сына, тому терпению, с каким она потворствовала капризам малыша. (В «Память, говори», этом мало похожем на руководство по воспитанию детей произведении, Набоков дает основополагающий совет: «Обращаюсь ко всем родителям и наставникам: никогда не говорите ребенку „Поторопись!“» Дмитрий рос быстро, настолько, что его в год и восемь месяцев принимали на снимке за пятилетнего. Но и еще одна, более тайная дань Вере вплетена в канву книги «Память, говори», где имя ее открыто в тексте не фигурирует. Приступая к описанию ранних лет Дмитрия, Набоков попросил жену, чтобы та набросала свои собственные воспоминания. Кроме нескольких фраз, эти воспоминания впрямую не нашли отражения в окончательном варианте книги. Но если бы кто-нибудь когда-нибудь поинтересовался, откуда узнал Набоков, что чувствовала Вера ветреной ночью на железнодорожном мосту неподалеку от Нестор-штрассе, то заметил бы: это именно она подробно описала Владимиру долгие ожидания проходивших под мостом поездов, когда стояла там в черном драповом пальто с Дмитрием в мерлушковом пальтишке, когда «ноги ломило от холода, руки, чтобы не закоченеть, то правая, то левая, сжимали поочередно его ручку (подумать только, какое количество тепла может развить тело крупного ребенка!)». Набоков присвоил это воспоминание, подтверждая обоюдность их жизненных восприятий: «… и эта оболочка и жар его веры в паровоз держали его в плотном теле и согревали тебя тоже, ибо, чтоб не дать пальцам замерзнуть, надо было только зажать то один, то другой кулачок в своей руке, — и мы диву давались, какое количество тепла может развить эта печка — тело крупного дитяти».