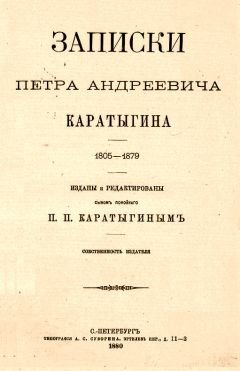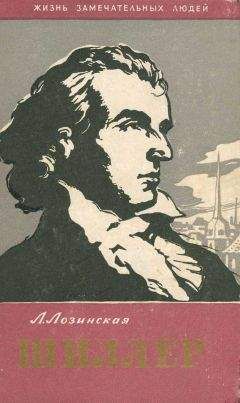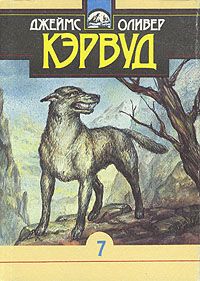Е = тс2
С Ланжевеном он говорил о теории относительности и убедился еще раз, что никто, даже среди тех великих, кто был тут, не понимает сокровенных идей теории тоньше и глубже, чем этот невысокий, похожий на провинциального адвоката парижанин… «Было ясно, — писал потом, перебирая в памяти впечатления этих дней, Эйнштейн, — что Ланжевен прошел самостоятельно через тот же лабиринт, который некогда проделал и я. Несомненно, что, если бы я не напечатал моей работы, он достиг бы цели, и сделал бы это раньше, чем все другие».
Помимо Ланжевена, Перрена и Мари Кюри, французская наука была представлена в Брюсселе Анри Пуанкаре. Выступления его на съезде лишь подчеркнули ту пропасть, которая существовала между лидерами неопозитивизма и группой материалистов-физиков. «Пуанкаре, — писал 16 ноября 1911 года Эйнштейн своему другу, доктору Цангеру в Цюрих, — выступал против теории относительности. При всей своей тонкости мысли он проявил слабое понимание ситуации…»
Они расстались — все, кто приехал сюда в Брюссель, — с одним чувством, одной решимостью — отстоять, защитить науку от ядовитых болотных туманов, и они шли вместе, взявшись за руки, по крутому обрыву, над пропастью нерешенных загадок и противоречивых (проблем. Это был извилистый и трудный путь. Историк поступил бы неправильно, если бы стал затушевывать трудности и ошибки, совершенные на этом пути. Как будет видно, Эйнштейн допускал не раз в своих философских высказываниях уступки идеализму. Духовное его развитие шло в борьбе с самим собой, с грузом идей прошлого. В этой борьбе были и победы и поражения. Но, кажется, уже достаточно ясна бессмысленность ходячей побасенки о махистских «идейных корнях» философии и физики Эйнштейна.
* * *
Пребывание его на опекаемом господином Лампа факультете не затянулось. Не дожидаясь начала 1912/13 учебного года, он оставил Прагу и вернулся в Цюрих. Его место на пражской кафедре занял известный уже нам Филипп Франк. О чувствах, с которыми провожал Эйнштейна из Праги местный махистский синклит, свидетельствует следующий диалог, последовавший при вступлении Франка в новую должность:
— Мы просим у вас в области вашей специальности немногого, — сказал декан. — Мы хотим, чтобы вы были нормальным человеком…
— Разве это такое редкое качество среди профессоров физики? — удивился Франк.
— Но вы не станете же уверять меня, что ваш предшественник — нормальный человек!
Он занял предложенную ему профессорскую кафедру в цюрихском политехникуме, в том самом, где он сидел когда-то за студенческой партой. Через два года, сдавшись на уговоры Планка, покинул навсегда Швейцарию.
Он ехал один — Милева Марич с детьми осталась в Цюрихе.
Шаг был тяжел. Впереди был Берлин, город прусских казарм и беспощадной, не останавливающейся ни перед какими преступлениями военной машины. Воспоминания Мюнхена заставляли сжиматься сердце. Но в том же Берлине жил Планк, была теория квант, были библиотеки, театры и музеи, где бродили некогда Лессинг и Шиллер. И было еще нечто, что делало берега Шпрее не такими уж далекими и чужими. Эльза, прилежная слушательница его скрипичных детских забав, — он встречал ее несколько раз за эти годы, — развелась с мужем и поселилась вместе со своим отцом и двумя дочерьми в столице Германии.
Макс Планк лелеял мечту видеть Эйнштейна живущим и работающим в Берлине.
Прусская Академия наук (Планк был ее непременным секретарем) выразила готовность избрать доктора Альберта Эйнштейна своим действительным членом. Научно-исследовательский центр, созданный под эгидой академии в Берлине — «Общество кайзера Вильгельма», предлагал Эйнштейну возглавить физический институт с освобождением притом от всех административных обязанностей. Императорский университет в Берлине извещал, что он будет счастлив видеть профессора Эйнштейна в своих рядах: ему предоставляется право читать лекции тогда и столько, сколько он сочтет для себя удобным…
Все это было исподволь подготовлено и выношено Планком.
Делегация Прусской Академии — в нее вошли Планк и Нернст — прибыла из Берлина в Цюрих.
Планк был взволнован, и голос его звучал торжественно и глухо:
— Страна, в которой вы родились и которая дала вам ваш родной язык, ждет вас…
— Да, — ответил Эйнштейн, — я люблю Германию, я люблю ее язык, ее народ. Но я не люблю войну, я люблю мир. Я пацифист. Не будет ли в тягость для Германии еще один пацифист, некто господин Эйнштейн?..
— Мы думаем о физике Эйнштейне, об авторе теории относительности…
— Но только двенадцать человек на всем свете, как «сообщил мне недавно Ланжевен, знают, что такое теория относительности! — смеясь, сказал Эйнштейн.
— Согласен! — вставил Нернст. — Но из этих двенадцати восемь как раз живут в Берлине!
Поезд шел это эстакаде, последней эстакаде перед вокзалом Фридрихштрассебанхоф. Заглянувший в вагон газетчик прокричал о новых осложнениях на Балканах. Он не слышал этих возгласов. Он думал о новой задаче, «по следам которой шел с тех лор, как была завершена работа по теплоемкости летом 1907 года. Размеры трудностей оказались большими, чем он мог предполагать. Мысль продвигалась вперед извилистыми трудными ходами. Так бьется среди нагромождения скал Дунай. Но вот Ульм, и, приняв в себя воды Иллера и Блау, поток выходит на простор равнины.
Глава восьмая. Барабаны в ночи
Новая механика — Эйнштейн докладывал о ней на венском съезде натуралистов незадолго до отъезда в Берлин — оставляла в тени самую трудную из мировых загадок — загадку, которую не решил и завещал миру тот, кто «genus humanus ingenio superavit» («превзошел разумом человеческий род»), как написано на гробнице Исаака Ньютона.
Закон всемирного тяготения Ньютона, известный каждому школьнику и служивший верой и правдой астрономии в течение двух столетий, продолжал оставаться формулой, лишенной, по существу, реального физического содержания. Почему и как одни тела «притягивают» другие? Что скрывается конкретно за пресловутой и таинственной «силой тяготения»? И почему — это был опытный факт, озадачивавший еще Галилея, — тела самой различной массы и не похожие по своему составу падают на землю с одним и тем же ускорением? Наличие воздуха скрадывает, правда, иногда этот эффект, но, не будь воздуха, слиток свинца и пушинка падали бы на землю совершенно одинаковым образом! Эта особенность тяготения сближает его, как ни странно, с движением тел «по инерции». Чтобы нарушить движение тела по инерции, надо подействовать на него внешней силой, сообщить толчок. И если толчок будет пропорционален массе тела, то любой предмет — будь то крошечный бумажный шарик или каменная глыба величиной с дом — начнет двигаться с тем же ускорением. Сила тяжести («вес»), «толкающая» все предметы к земле, также пропорциональна их массе и сообщает им одинаковое ускорение. И больше того: масса остается качественно и количественно тою же самой, имеем ли мы дело с явлениями инерции или же тяготения. Но что общего, спрашивается, между природой движения в первом и во втором случае? Что общего между перемещением, скажем, биллиардного шара, пущенного кием по столу, и свободным падением того же шара под действием тяжести? Загадка тяготения оказывалась, таким образом, явно переплетающейся с другой тайной природы — загадкой инерции, также остававшейся неразъясненной с времен Ньютона. Великий англичанин, бившийся над всеми этими загадками и отчетливо сознававший мучительность положения, раздраженно бросил в конце концов допытывавшимся у него ученикам свое знаменитое: «Hypotheses non fingo!» («гипотез не измышляю!»).