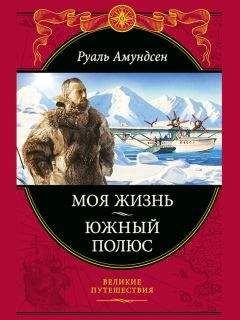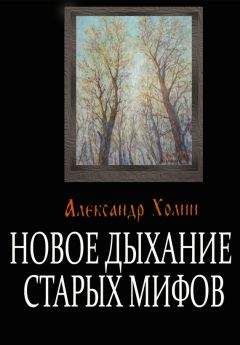Но король пребывал в нерешительности. 28 октября стало известно, что он отказался подписать декрет о военном положении. Тем самым фашисты получили полную свободу действий. Войска против них так и не были двинуты. И квадрумвиров, комфортабельно расположившихся в отеле Бруфани, никто даже пальцем не тронул, хотя гражданские власти, захоти они только, легко могли бы арестовать новоявленных полководцев! Но власти, как гражданские, так и военные, повсюду слагали свои полномочия в пользу фашистов.
«Марш на Рим» совершался по всячески: на машинах, и в поездах, и походным строем, как, собственно, и полагалось для пущей наглядности; фашистов были многие тысячи. Правительство бездействовало. Да, десятки тысяч фашистов беспрепятственно вступили в Рим с разных сторон.
Произошло все это 30 октября. Сопротивления не было. Не было ни единого выстрела. Сторонники дуче были облачены в черные рубашки, на груди — белые черепа. Фашисты печатали шаг, горланили песни. Муссолини выехал в Рим в спальном вагоне.
Он явился к королю 30-го утром.
Существует, как известно, определенный придворный этикет, и, по всей вероятности, Муссолини полагалось быть во фраке. Но он не снизошел до этою. И когда он вошел к королю, на нем были черная рубашка, серо-зеленые брюки, солдатские башмаки и краги.
Виктор-Эммануил чуть было не осведомился, что это еще за маскарад, но Муссолини опередил коротышку монарха, попросив извинения за необычный наряд, ибо он-де «только что вернулся с поля боя» («к счастью, бескровного», — прибавил он невинно), вернулся, принеся к стопам короля «Италию Витторио-Венето». (При Витторио-Венето итальянцы одержали решающую победу, после которой и было подписано перемирие с вконец обескровленной Австрией.)
Нужно сказать, что вся эта экстраординарная аудиенция носила все признаки заранее поставленной и срежиссированной комедии… Собственно говоря, еще 29-го, за день до визита, король предложил Бенито Муссолини сформировать правительство. И естественно, главарь чернорубашечников принял это предложение. Обыватели в массе приветствовали его. Он был для них усмирителем «красной опасности», и они, обыватели, в восторге (а многие, может быть, и в испуге) вывесили из окон национальные флаги.
Кто знает его, что он еще натворит, этот «усмиритель»? И кого он еще будет усмирять или вовсе истреблять?
Нет, нельзя сказать, конечно, что в Италии в те дни не было сил, способных призвать фашистов к порядку. Такие силы были.
Но рабочие Италии, люди, которым не раз случалось с оружием в руках драться с обнаглевшими чернорубашечниками, не были в тот момент достаточно организованы, чтобы оказать быстрое и решительное сопротивление.
И момент для «похода на Рим» в этом смысле был выбран как нельзя более удачно.
Итальянское рабочее движение находилось тогда в глубочайшем кризисе. Этот кризис последовал за взлетом эпохи занятия фабрик. А теперь труженики были разобщены. Единства действий не существовало.
Фашисты не мешкали — еще накануне «похода» они разгромили и разграбили редакции и типографии газет — «Ордине Нуово» в Турине и «Иль Комуниста» в Риме. Королевская гвардия и полиция проявили при этом немалую предупредительность — они всячески пошли навстречу чернорубашечникам и выдворили из редакционных помещений рабочую охрану.
Осталась только газета «Лавораторе», что означает «Труженик», издававшаяся в Триесте. Редакция ее тоже была подожжена, но триестинцы восстановили все, что было возможно, и после разгрома газета просуществовала еще несколько месяцев. Но после повторного нападения фашистов было прекращено издание и этой газеты.
Политические партии трудящихся оказались не подготовленными к конкретным действиям. Они не могли договориться между собой. Силы уходили на бесконечные дискуссии — обсуждались принципы и детали общей политики, обсуждались личные качества тех или иных деятелей.
Конечно, нельзя умалять значение того, что происходило тогда внутри социалистической партии. Социалистическая партия порвала с реформистами. Они были исключены из партии на римском съезде, происходившем в октябре двадцать второго года — накануне фашистского переворота.
Времени у рабочих партий уже не оставалось. Быть может, события развернулись бы иначе, если бы разрыв с реформистами произошел несколько раньше и если бы социалисты сумели найти путь к единству действий с коммунистами. Однако этот путь ими так и не был найден. Да и Муссолини не всеми его противниками принимался всерьез. И недооценка пошла ему на пользу, потому что в какой-то мере облегчила ему захват власти.
В эти трудные дни Антонио Грамши был далеко от Италии. Он находился в Москве в качестве представителя Итальянской компартии в Исполкоме Коминтерна, участвовал в подготовке четвертого конгресса Коминтерна.
Антонио Грамши выходил из исполненной купеческого великолепия гостиницы «Люкс» прямо на синюю рассветную Тверскую.
Он был чужим здесь сперва, но эта отчужденность длилась недолго. Главной преградой для взаимопонимания был язык, вернее незнание здешнего языка.
Летом двадцать второго года Грамши попал в подмосковный дом отдыха. Напряженная работа на родине, напряженный труд здесь, в советской столице, — все это резко подорвало его силы. Он уехал отдохнуть и полечиться в санаторий «Серебряный Бор».
Юлия Аполлоновна Шухт, внучка боевого генерала времен русско-турецкой войны и дочь народовольца-эмигранта, проведшая много лет в Италии и Швейцарии, в семнадцатом году вернулась в Россию. Юлия училась в Италии в академии Санта Чечилиа по классу скрипки. Она закончила курс весьма успешно и по приезде в Россию занялась педагогической работой. Педагогом была и ее старшая сестра Евгения, работавшая в Наркомпросе, ближайшая сотрудница Надежды Константиновны Крупской. Евгения, Женя, как называли ее в семье, тяжело заболела. Ее отправили в дом отдыха с наказом поскорее выздороветь. Юлия Аполлоновна часто навещала Евгению.
Сентябрь был на исходе, листья пожелтели, Юлия шла по осеннему саду, что-то напевая про себя. Потом она почему-то остановилась. Навстречу ей шел человек необыкновенной внешности. Низкорослый, сутулый, пожалуй, даже горбатый, с громадной тяжелой головой. Был он смуглый и бровастый, без шляпы, в каком-то пестром, явно иностранном пальто. Глаза его были опущены; когда он поравнялся с Юлией, он взглянул на нее. И вдруг оказалось, что глаза у него невероятные — не серые и не голубые, а синие, темно-синие, великолепные и лучистые. Он обратился к Юлии с каким-то вопросом. Рассказывая об этом много лет спустя, Юлия не могла уже припомнить, о чем именно он ее спрашивал; говорил он по-французски, Юлия по выговору узнала итальянца и ответила ему по-итальянски. А он смотрел и смотрел в глаза Юлии, лицо у нее было странное и вдохновенное, и чем-то оно напоминало византийские иконы, которые он видел в Москве. В ней не было обыденности, приземленности, заурядности, и это решило их судьбу. Завязалась беседа. Эта беседа, этот диалог затянулся на много лет — он длился полтора десятилетия, до самой гибели Антонио Грамши.