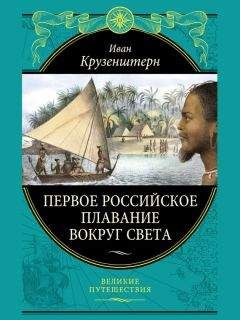У молодого Ивана завелся среди заблудовских мальчишек приятель Гринь. Он шнырял под окнами друкарни, поминутно заскакивал в нее, всюду совал свой любопытный нос. Печатник заметил шустрого мальчишку. Помощники нужны были, и Федоров взял его в типографию.
Послесловие Ивана Федорова ко второй книге, напечатанной в Заблудове.
Меж тем почва в Литве все более накалялась. В том самом году, когда из заблудовской типографии вышла первая книга, произошло, наконец, полное соединение Литвы с Польшей. На сейме в городе Люблине был заключен акт о вечном союзе между Литвой и Польшей, так называемая Люблинская уния 1569 года. По этому соглашению к Польше отошли Волынь, Подолия, Киевская земля — вся южная половина Литвы, в том числе и владения Григория Ходкевича. В то время, как Литва сохраняла свое государственное устройство, суд, законы и войско, Украина лишалась последних остатков политической самостоятельности.
Гетман Ходкевич развивал энергичную кампанию против унии, грозил вооруженной силой воспротивиться соединению с Польшей.
Всякая общественная деятельность в такой обстановке сразу принимала яркую политическую окраску. И деятельность заблудовской типографии также приобретала все более определенный политический характер. В этих условиях Иван Федоров не мог оставаться простым мастером, исполнителем приказов и распоряжений своего патрона. В этом энергичном, недюжинном человеке, оказавшемся в самом центре разгоравшейся борьбы, должна была заговорить натура бойца. Он стал горячим и убежденным участником борьбы; неожиданно для самого себя он ощутил вдруг силу и призвание постоять за свой народ против его насильников и притеснителей — польско-литовских панов. Это вносило во всю деятельность книгопечатника новое, гораздо более глубокое и осмысленное содержание. Это оправдывало также самую его жизнь на чужбине.
В 1570 году Федоров отпечатал в заблудовской типографии вторую книгу — псалтырь — и стал ждать нового распоряжения от Ходкевича.
Послесловие Ивана Федорова к Псалтыри, напечатанной в Заблудове.
Но гетман не торопился. Он тянул, откладывая со дня на день.
В дни, когда принималась Люблинская уния, Ходкевич восстания не поднял, не решился поставить на карту свое состояние и самое существование всей своей семьи. Благоприятный момент был упущен.
После он уже должен был иметь дело с усилившимся противником. И, опасаясь гнева польского короля и его панов, Ходкевич присмирел. К этому прибавились болезни. Григорий Ходкевич стал дряхлеть.
Наконец, он призвал к себе печатника, но только для того, чтобы объявить, что не в силах более вести дела, что нужно закрыть типографию.
Федоров не мог скрыть своего волнения и печали. Ходкевич, успевший за несколько лет хорошо узнать его и полюбить, поспешил утешить печатника, пообещал его обеспечить и тут же предложил в дар свою деревню близ Заблудова, где помещалась типография. Престарелый магнат, опытный и ловкий политик, убеждал Федорова отказаться от опасной борьбы, советовал оставить тревожное и неблагодарное ремесло, уйти на покой, зажить обеспеченной жизнью собственника-землевладельца, маленького помещика.
Потрясенный, вышел Федоров от Ходкевича.
Настоящую душевную бурю выдержал он в эти дни. Ради любимого печатного дела покинул он родину; оно одно поддерживало и дало смысл его существованию на чужбине. Только здесь он по-настоящему понял, какую великую силу получает книга, когда ее быстро размножишь сотнями и тысячами сразу, и он по достоинству оценил свое книгопечатное искусство, увидев, как оно помогало родному народу, вооружало его для борьбы с насильниками — панами.
И после этого снова хотят отнять у него любимое дело. И если бы просто выгнали, тогда не о чем было бы размышлять, не было бы иного выхода, сама нужда толкала бы его вперед, куда глядят глаза, в поисках куска хлеба и пристанища. Но его не гонят. Его обласкали, подарили деревню, предоставили возможность обеспечить себя на всю жизнь. Уплатить за это надо было только отказом от своего призвания.
Беззащитному и беспомощному изгнаннику, бобылю, случайно нашедшему неверный приют на чужбине, нелегко было делать выбор между спокойной, обеспеченной жизнью и новыми скитаниями, где все было неизвестно, даже то, найдет ли он когда-либо возможность снова печатать книги.
Если даже ему не дорог был собственный покой, он мог создать благополучие своего единственного сына, ведь в нем одном была вся личная жизнь уже стареющего отца. Отвергая щедрый дар, он должен был и сына обречь на участь скитальца, бездомного бродяги. Порой ему казалось, что Ходкевич нарочно подарил деревню, чтобы ослабить его волю, заставить изменить своему призванию, и он терзался в мучительных колебаниях и сомнениях. Этих дней Иван Федоров никогда не мог забыть. Прошли годы, и он рассказал о своих тогдашних переживаниях:
«Егда же приити ему (Ходкевичу) в глубоку старость, и начасте главе его болезнию одержимя бывати, повеле нам работания сего (книгопечатание) престати и художьство рук наших нивочтоже положити, и в веси (деревне) земледеланием житие мира сего препровождати…»
Но положить «нивочтоже» свое мастерство Иван Федоров оказался не в силах. Он покончил со всеми сомнениями. Борец, общественный деятель, посвятивший всю жизнь служению своей идее, победил в нем. Он решился бросить все и идти искать новые возможности продолжать книгопечатание. Не корысть манила его; он отвергал всякую мысль об этом: «Не мните убо, яко от чрева глаголати или писати. Весть бо всяк (да знает всякий), от начала прочитаяй вкратце списаную сию историю, како от его милости пана Григория Ходкевича всякими потребами телесными, пищею и одеждою удволен бех, но вся сия нивочтоже вменях: не уповах на неправду и на восхищение не желах, богатьства аще и много стекалося, не прилагах тамо сердца, но паче изволих всякие… скорби и беды претерпевати, да множае умножу слово божие», то есть только бы иметь возможность печатать, размножать книги.
Обывательское прозябание в роли помещика не могло в глазах Федорова идти ни в какое сравнение с деятельностью книгопечатника. Добровольно отказаться от общественной деятельности и уйти в личную растительную жизнь было для него немыслимо. Он образно и метко определил свое призвание: «Не пристало мне в пахании да сеянии семян жизнь свою коротать: вместо сохи ведь у меня ремесло художественное, вместо семян житных — духовные семена надлежит мне по свету рассеевать и всем раздавать духовную эту пищу…»
Именно потому он и приходил в ужас от одной мысли, что может изменить своему призванию — может перестать печатать книги. Сын своего века, Иван Федоров, говоря о любимом деле, естественно облекал свою мысль в религиозную оболочку: «Более всего ужаснулся я владыки моего Христа, беспрестанно взывавшего ко мне: „Лукавый раб и ленивый! Зачем не отдал ты мое серебро торговцам, чтоб я мог получить с лихвой?“» Этот образ, навеянный евангельской притчей, означал для Ивана Федорова упрек, почему перестал размножать печатные книги, и он говорит о себе, снова обращаясь к этой церковной притче о таланте, зарытом в землю: «Грех мне зарывать в землю талант, данный мне от господа». Думая о том, как бы он стал жить, не занимаясь книгопечатанием, Федоров представляет себе бесплодную смоковницу, «яко всуе землю упражняющу», и готов уподобить себя ее бесполезному существованию.