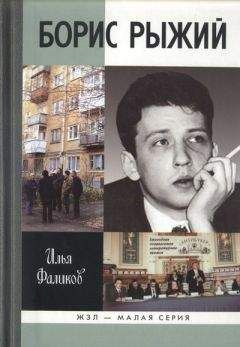Потом он вытолкнул меня из дверей, сунул на прощанье пачку бумажек. Там оказалось две тысячи рублей — тридцатками.
Комитет по розподилу состоял из шести старичков — аккуратных, вежливых: корректора, бухгалтера, мастера из портновских артелей. За тысячу двести рублей мне дали две квартиры — Шапиро и Бронштейна. Всего пять комнат. К счастью, я не знал ни того, ни другого. Я должен был составить опись имущества, главным образом малоподвижного, — тряпки никто не учитывал. Трижды комитетчики собирались на одной из моих квартир. Ели мед, пили чай с блюдечка, чистенькие, в очках и сюртуках. Потом утверждали составленные мною списки, назначали несуразно низкие цены на ковры, на пианино, на книги — двадцать пять процентов разницы шло им, остальное брал я — за работу. Понемногу обе квартиры перекочевали на рынок. Сначала меня бросали в дрожь белые надверные наклейки: «Бронштейн — жидивске майно» и «Шапиро — жидивске майно». Потом привык. Через месяц у меня были подготовлены два костюма, итальянский заплечный мешок, шесть тысяч рублей советскими деньгами, кое — какие ценности в золоте. С этим я предполагал идти в Харьков, где жила теща — русская и ее сыновья. Мой уход был ускорен визитом одного из комитетских старичков. Он пришел пьяненький, посмотрел на меня, присел — в то время я уже разъелся и начинал терять угодливость. Он сказал: «Григорий Михайлович, Григорий Михайлович, а не из евреев ли вы будете, Григорий Михайлович?» Я засмеялся и сказал, что в Полтаве у меня мать и две сестры — их весь город знает, и что я сам пострадал от евреев, и дал ему шестьсот рублей деньгами и часы.
Через полчаса я уже шагал по малолюдным улицам. По дороге зашел к Корсунскому, постучался и вдруг отшатнулся, заметив белую надверную наклейку: «Корсунский — жидивске майно».
В начале января я пришел в Харьков.
В то время Харьков был наполовину пустым городом. Продолжительность его обороны дала возможность выехать всем, кто этого хотел. Еврейские трупы уже гнили в Лосевских карьерах. Уцелевшие жители расползались по всей Украине с тачками, ручными тележками — в городе был голод. Только на следующий год горожане додумались сеять спасительную кукурузу. В первую же военную зиму тысячи и тысячи угасли в нетопленых квартирах. Мужчины пухли, надолго теряли половую потенцию. Женщины шли на улицу, где шныряли немецкие офицеры, приехавшие с близких позиций, и по всему фронту от Орла до Ростова гуляла слава о Кузнецкой улице — улице солдатских борделей и иных гостеприимных домов.
Еще долго, много недель после второго освобождения Харькова, девушки прятали парижские прически под скромные платочки, разучивались говорить по — немецки, вспоминали, как ночами плакали на сборных пунктах отправки в Германию, как внезапно налетали их друзья эсэсовцы, снимали армейскую охрану, в темноте водили фонариками по заплаканным личикам, увозили своих подруг в казармы.
Была провозглашена свободная торговля. Возникли торговые артели. Вербовались осведомители, и их глухо ненавидело коренное население. Чиновники городской управы выпросили у коменданта десять грузовых машин, послали их с еврейским барахлом на Полтавщину менять на продукты. Старшим колонны был назначен некто Ященко, маленький человек, кассир. Через два месяца он вернулся миллионером, скупал дома, развернул большую валютную торговлю. Таких миллионеров в Харькове считалось пять — шесть человек.
Пусто было в Харькове. Я заходил в дома. Звонил. Обрывал ручки — так, что три этажа гудели, как от колокола. Из какого‑нибудь чердака выползала старушка, шептала: «Все уехали…», или «Все посажены…», или «Всех в овраг стащили».
Ночевать я пошел на Клочковскую, где жила теща Мария Павловна с взрослым сыном Павликом. Она слабо всплеснула руками и смотрела так жалко и голодно, что я подумал: «Ведь есть люди, которые еще несчастнее, чем я». Вошел юноша — сын, Павлик, до войны он часто брал у меня деньжат — на пиво. Но сейчас я встал и вытянулся перед ним.
«Уходи, жид, — сказал Павлик. — Даю тебе тридцать минут срока. После этого иду в полицию». Он заметил время на часах, и я понял, что он все решил, давно и бесповоротно, что не надо говорить ни о Боге, ни о родстве, а надо уходить в метель и ночь. И я поклонился Марии Павловне — низко, в ноги, и вежливо сказал юноше: «До свиданья», — и ушел, не дожидаясь, пока пройдут эти тридцать минут.
Всю ночь я ходил по Холодной горе, где не было патрулей. Я думал о том, что у меня нет зла на Марию Павловну. И я понял, что у меня есть еще одна цель в жизни — самая важная. Когда‑нибудь, когда вернется Красная Армия, пройти по Харькову, Киеву, всей Украине — везде, где меня гнали и еще будут гнать. Постучать в каждое знакомое окно. Наградить всех, кто помог мне — хлебом, молчанием, добрым словом. Наказать всех, кто предал меня, отказал мне — в хлебе, молчании, добром слове.
Наутро, измучившись и намерзшись, я зашел в чайную. Здесь разговорился с группой молодых женщин — солдаток, собиравшихся на Полтавщину на менки. Часа в четыре, поспав немного, я уже шагал с шестью бабами по Змиевскому шоссе.
На выходе из города у меня произошла встреча, которой я никогда не забуду. Это был Савелий Андреевич H., директор большой типографии, у которого я работал много лет.
Бабочки отошли в сторону, а Савелий Андреевич наскоро, оглядываясь по сторонам, поведал мне мысли, самые важные из тех, что он выносил за последние три месяца.
— Я понял, что немцы пришли сюда не на годы. Навсегда. Сопротивляться им бесполезно и неправильно. С ними надо жить. Конечно, вам как еврею это трудно. А я решил окончательно — иду работать в управу.
Я смотрел на этого упитанного, хорошо одетого человека и думал: «Мы долго работали вместе, и ты был главнее меня, и мне казалось, что это потому, что ты украинец, а я еврей. И при встрече я кланялся тебе, а ты слегка кивал головой. И сейчас я ничтожный из ничтожных, шепка в море, паршивый еврей, но я больше тебя и честнее, Савелий Андреевич». И я посмотрел ему прямо в глаза и сказал: «Не исключено, что дела у советской власти обернутся не так, как вы это предполагаете!» И мы разошлись в разные стороны.
Три месяца я ходил по Полтавщине, менял, изредка поторговывал, ожидал весны, чтобы перейти фронт через «зеленую границу». Обтерпелся, стал хитрее, осторожнее. Однажды в феврале спьяну залез на одну из солдаток, и так мы прожили с ней до апреля. В апреле ночью женщина со смехом сказала мне: «А ты еврей — хоть и не прячься — я все подсмотрела». Мы посмеялись вместе, а часа через два, дождавшись, пока она заснула, я собрал остатки вещичек и ушел куда глаза глядят. Не верил я никому, не такое было время, чтобы верить. Тогда уже подсохло, ночевать можно было в лесу. Я выбрал себе товарища — молодого харьковского рабочего и пошел к фронту. Две недели мы слонялись вдоль Донца, отчаялись и разошлись. По дороге нам встретилась группа переходчиков — три молодых еврея, типичных, изнеженных, с ободранными до крови ногами. Таких обычно ловили за двадцать километров от линии фронта. В лучшем случае они подрывались на минах.