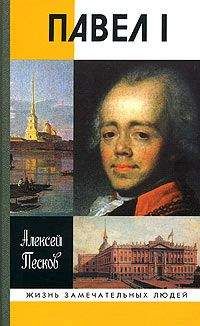Вчера, как скоро, приехав, взошел к себе в покои, то пришёл ко мне будущий мой тесть с двумя сыновьями своими, я нашел и его в таких расположениях, каких я описать не могу; мы оба со слезами говорили довольно долго. Вашему Величеству известны расположения сердца моего, с каким поехал, но за долг считаю Вам первой открывать всегда самые сокровенные чувства сердца своего и за первое удовольствие оное поставляю».
Особо Павел Петрович описал свои впечатления от встречи со своей возможной суженой и её родителями.
«Я нашёл невесту свою такой, какой только желать мысленно себе мог; не дурна собою, велика, стройна, незастенчива, отвечает умно и расторопно, и уже известен я, что если ли сделала действо в сердце моём, то не без чувства и она с своей стороны осталась. Сколь счастлив я, всемилостивейшая Государыня, если, Вами будучи руководим, заслужу выбором своим ещё более милости Вашу. Отец и мать не таковы снаружи, каковыми их описывали: первый не хромает, а другая сохраняет ещё остатки приятства и даже пригожества.
Дайте мне своё благословение и будьте уверены, что все поступки жизни моей обращены заслужить милость Вашу ко мне. Принц (Генрих) мне столько дружбы и приязни оказывает, что я не знаю, чем за оное ему воздать: он снисходит до самых мелочей и забывает почти сан свой». Письмо заканчивалось: «послушный сын и верноподданный».
В этом послании трудно найти хоть какие-то намёки на неудовольствия и обиды. Павел всегда обладал одной неизменной чертой: обо всем говорить прямо и откровенно. Если же существовали какие-то темы нежеланные или двусмысленные, то подобные темы он никогда не обсуждал; ни в публичном, ни даже в эпистолярном обращении они просто не существовали.
Прошло два дня, и Цесаревич уже мог сообщить Императрице о благоприятном исходе важного дела.
«Бог благословляет все намерения Ваши, ибо благословляет Он всегда добрые. Вы желали мне жену, которая бы доставила нам радость и утвердила домашнее спокойствие и жизнь благополучную. Мой выбор сделан, и вчера по рукам ударили; припадаю с сим к стопам Вашим и с тою, которая качествами своими и расположениями приобретет милость Вашу и будет новым домашним союзом… Что касается До наружности, то могу сказать, что я выбором своим не остыжу Вас; мне о сем дурно теперь говорить, ибо, может быть, пристрастен, но сие глас общий. Что же касается до сердца её, то имеет она его весьма чувствительное и нежное, что я видел из разных сцен между роднёю и ею. Ум солидный приметил и Король сам в ней, ибо имел с ней о должностях её разговор, после которого мне о сем отзывался; не пропускает она ни одного случая, чтоб не говорить о должности её к Вашему Величеству. Знаниями наполнена, и что меня вчера весьма удивило, так её разговор со мною о геометрии, отзываясь, что сия наука потребна, чтоб приучиться рассуждать основательно. Весьма проста в обращении, любит быть дома и упражняться чтением или музыкой, жадничает учиться по-русски, зная, сколь сие нужно и, помня пример предместницы её».
Общение с Королём не прошло даром. Старый Фридрих — ему исполнилось 64 года, что по тем временам считалось глубокой старостью — убедил молодого Павла, что его единственное искреннее желание — добиться сердечных отношений с Россией и её Самодержицей. «Король столь чувствует дружбу Вашу к нему, что говорил, что он бы кровью и жизнью хотел Вам заплатить и со слезами о сем говорит».
Прусский Монарх был тонкий дипломат; он не просто так проливал слезы. Его сокровенным желанием было учредить союзнические отношения между Берлином и Петербургом, для чего надо было разрушить союз России с Австрией. Ведь без этого невозможно добиться прусской гегемонии в Германии, где австрийское влияние преобладало; об этом всё время грезил Фридрих Великий.
Цесаревич был менее искушенным в дипломатических тонкостях, верил тому, в чём его, как казалось, так искренне убеждали. Восхищенный Королем и прусскими порядками, Павел Петрович навсегда сохранит это восхищение. В благодарном порыве заключит дружеский клятвенный союз с наследником Короля кронпринцем Фридрихом-Вильгельмом (1744–1797), который станет Королём Пруссии после смерти Фридриха Великого в 1786 году.
Когда Павел придёт к власти, то старая клятва никак не скажется на внешней политике России. Когда же его сменит на Троне сын Александр, то д ля него пропрусские симпатии превратятся в ориентир для политики Империи. В 1805 году Император Александр I и Прусский Король (1797–1840) Фридрих-Вильгельм III[42] на могиле Фридриха Великого в Потсдаме дадут клятву «вечной дружбы». С этого времени и до начала 80-х годов XIX века, до времени прихода к власти Александра III (1881–1894), русская внешняя политика будет строиться с оглядкой на Берлин, с учётом интересов Пруссии, с 1871 года — консолидированной Германской Империи под главенством прусской династии Гогенцоллернов…
Вполне понятно, что прусские симпатии Цесаревича и уверения Фридриха никак не повлияли на позицию Екатерины II. Она давно не верила никаким словам и придерживалась стойкого убеждения, что Австрия — главный союзник в Европе. Но она не могла не беспокоиться по поводу тех «неуместных» прусских восторгов, которые излучал сын Павел и которых она опасалась ещё до прибытия того в Берлин. В письме Цесаревичу прямо сказала, что «заимствуя у других, не всегда сходственно пользе своей поступаем».
Павла же Петровича визит в Берлин, все почести и знаки внимания, оказываемые ему, лишний раз убедили, что именно он — законный наследник и будущий преемник власти в России. Если на Родине это обстоятельство замалчивалось, а сам он постоянно дискредитировался и затирался, то в Пруссии всё стояло на своих, предуказанных Богом, местах.
И ещё одно важное, что тронуло сердце и впечатлило на всю оставшуюся жизнь — прусская организация. Конечно, у Павла Петровича не имелось никакой возможности изучить основательно прусскую систему управления, ту реальность, которую великий философ Иммануил Кант (1724–1804) считал наилучшей в мире. Насколько известно, Павел Петрович никогда не читал произведений мыслителя из Кёнигсберга, но с открытым сердцем воспринимал то, что открывалось его взору.
Это — прусский военный строй, прусская выправка, производившие неизгладимое впечатление. На плацу стоят тысячи, а действуют как единое целое, как один человек. Настолько всё синхронно, отработано, выверено, как будто единая невидимая рука всем управляет! И каждый, от генерала до последнего солдата в строю, занимает определённое место и исполняет предписанное безукоризненно; достаточно только короткой команды или жеста руки руководителя. Лучшей формы организации и придумать нельзя! И это не только плац, это — вся страна…