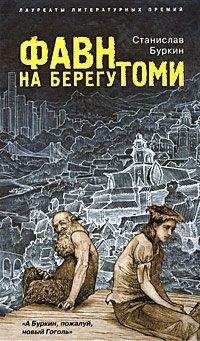«Что это со мной? — подумал Василий Иванович, вытер лоб платком. — Слабость какая, даже тошнит… Придется, видно, опять ехать на кумыс. — Но тут же, как одержимый, вернулся к своему: — Все пустяки, все пройдет… А сейчас надо переделать композицию! Немедленно…»
Он поднялся на второй этаж и в нетерпении резко повернул три раза ручной звонок. Дверь поспешно открылась.
— Лиля! — Василий Иванович уже совал свою шапку и перчатки в руки опешившей жене. — Лилечка, я все понял! Давайте снимать холст с мольберта… Надшивать будем… Где Паша? Помогите мне…
— Ну вот, снова-здорово! — тихо проворчала Паша, отходя от кухонной раковины и вытирая руки о передник. Она хорошо знала повадки хозяина.
«Теперь до полночи угомону не жди! Оленьку хоть бы не растревожили, ведь только уснула!» — мрачно думала Паша, Василий Иванович уже звал из мастерской:
— Паша, иди скорей да захвати сюда клещи!..
Через месяц Суриковы уехали в степи под Самару. Елизавета Августовна ждала второго ребенка. А в доме Вагнера в маленькой мастерской раскинулась на мольберте совершенно законченная в композиции, уже обведенная контурами, заново решенная картина «Утро стрелецкой казни».
Молодая библиотекарша в розовой кофточке с высоким, глухим воротником положила перед читателем кипу книг.
— Вот, пожалуйста, тут все, что вы заказывали.
— Отлично. Благодарю. — Читатель тут же начал просматривать книги, перелистывая их узловатыми пальцами больших рук.
Василий Иванович, стоя у библиотечного стола, заметил, что посетитель был невысок, коренаст, одет в темный, хорошего покроя пиджак. Под воротничком мягко лежал белый шелковый галстук. Густая борода с проседью веером обрамляла лицо с широким русским носом. Из-под темных нависших мохнатых бровей неприятно и остро блестели светлые глаза. Коротко подстриженные волосы открывали выпуклый лоб и были заложены за большие, слегка оттопыренные уши. Добрым и красивым в лице был только рот. Но лицо это поражало силой, умом, волей и страстностью.
— Вот тут еще одна книжка для вас нашлась, Лёв Николаевич… — Розовая библиотекарша протянула ему книжку.
Сурикова словно кто-то толкнул: «Лёв Николаевич!» Разом догадавшись, он в волнении повернулся к посетителю.
— Вы Толстой? — И, не дожидаясь ответа, Василий Иванович шагнул вперед, неожиданно улыбнувшись.
— Я самый, — ответил Толстой, не отрываясь от книги. Затем, искоса поглядев на Сурикова, спросил: — А вы кто же будете?
— А я художник… Суриков.
— А-а! Знаю. Мне о вас хорошо говорил Илья Ефимович Репин. — И Толстой протянул Сурикову руку: — Давайте знакомиться!
Суриков взял его руку обеими своими…
Из Румянцевского музея они вышли вместе. Шли по Волхонке, мимо храма Христа Спасителя, по Пречистенке: Толстой — в Левшинский, а Суриков — в Зубово.
Накануне выпал сильный снег. Огромные сугробы отделяли тротуар от санного пути мостовых. Новые знакомцы шагали не спеша, с удовольствием беседуя. На тощих городских: клячах мимо проезжали московские извозчики — «ваньки»» Парные рысаки проносили серединой улицы широкие сани с медвежьими полостями, над которыми высились туго набитые ватой фигуры красношеих кучеров в квадратных шапках. с меховой оторочкой.
Проезжали деревенские мужики в розвальнях, устланных сеном, запряженных мохнатыми лошадками. И после них. в морозном воздухе долго еще держался крепкий запах конского пота и зимнего сена.
— Эх! Прелесть, как пахнет. Аромат деревенских конюшен люблю! — И Толстой тянул в себя воздух, подрагивая широкими ноздрями.
Василий Иванович от души засмеялся восхищению Толстого — здесь они поняли друг друга.
Суриков вдруг внимательно поглядел на Толстого:
— А ведь очень похоже написал вас Иван Николаевич Крамской. Хороший портрет. Уловил он ваш характер.
Толстой, помолчав, рассмеялся.
— Знаете, сколько времени он меня уговаривал позировать? Я ведь терпеть не могу этого… Семь лет тому назад это было… Я как раз тогда начал писать роман о Петре Великом… Ну, конечно, занят был. Людей того времени старался постичь… Ну, вот тогда-то он, Крамской, и приехал ко мне в Ясную Поляну и стал меня уговаривать позировать для портрета. Не хотел я. Но знаете, чем он меня сломил? Говорит: «Ваш портрет должен быть в галерее у Третьякова!» — «Как так?» — спрашиваю… «Очень просто, — отвечает. — Разумеется, я его не напишу, и никто из моих современников не напишет, но лет через пятьдесят он будет написан! И тогда останется только пожалеть, что портрет не был сделан своевременно!» Этим доводом Крамской меня убедил, и стал я ему позировать. Вот так-то!
— Ловко придумано! И доказано, как дважды два — четыре!.. — воскликнул Василий Иванович и тут же перескочил на горячую для него тему: — А как же, Лев Николаевич, с Петром Великим? Вы говорите, начали роман…
— Петра я потом оставил. Не стал работать. Но представьте, много интересного я тогда откопал о Петре. Такие типы… Ну, вот, к примеру, боярин князь Черкасский. Колоритная фигура!.. Один из виднейших сподвижников Петра. Известный в Москве щеголь. Носил соболью шубу, вишневого бархата отвороты на рукавах лазоревого шелка. Под шубой кафтан — атласный, зеленый… Шапку на голове носил чернолисью, горлатную, с темно-зеленым бархатным верхом… Сам сухонький, маленький, глазки серые, стальные и щупают, щупают каждого, с кем говорит. А сам беспрестанно потирает маленькие красные ручки и переставляет ноги в красных сапожках. Петр только ему да Стрешневу не снял бороду, и она у Черкасского была длинная, белая, как шелк расчесанная, и это на красном, будто ошпаренном, лице.
— Хорошо вы его описываете, Лев Николаевич, ну просто вижу! — Василий Иванович удовлетворенно похлопал руками в теплых перчатках.
Возле церквушки Святого Духа, у Пречистинских ворот, на каменной тумбе, широко расставив ноги в залатанных валенках, сидел старик в худом рыжем армяке, с торбой за плечами. Темная морщинистая рука его благоговейно держала полфунта ситного с изюмом. Он отламывал маленькие кусочки и аккуратно «кушал», не спеша двигая седой бородой и усами. Рядом стоял мальчишка с веснушчатой рожицей, ушедшей в чужую, старую шапку по самые ресницы. Старик был слеп и ходил с поводырем.
Толстой мимоходом сунул мальчишке гривенник.
— Ой, благоде-е-етель, ваше благоро-о-о-дие, спаси вас госпо-о-о… — затянул было поводырь знакомую песню.
— Нечего! — рявкнул Толстой, отмахнувшись.
Старик перестал жевать и медленно, не моргая глазами, глядевшими в никуда, перекрестился, а потом снова задвигал бородой. Они поднялись по Пречистенке до Малого Левшинского переулка, где жил Толстой.