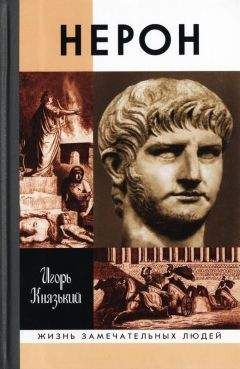Даже такой строгий судья Нероний, как Публий Корнелий Тацит, вынужден признать, что игры прошли без всякого ущерба для благонравия.[98] Что ж, в этом случае великий историк, обличитель тирании и тиранов, безупречно соблюдал им самим выдвинутый девиз, лучше которого для всех, пишущих на исторические темы, ничего быть не может: «Sine irae et studio!» — «Без гнева и пристрастия!».
Если что и могло несколько смутить особо строгих ревнителей благопристойности, то разве что разрешение посещать состязания атлетов служительницам богини Весты — жрицам-девственницам весталкам, обязанным хранить целомудрие на протяжении тридцати лет служения божеству домашнего очага и огня, горевшего в нем. Атлеты-то по греческому обычаю состязались голыми… Сам Нерон приглашению на эти зрелища весталок дал несколько странное объяснение, напомнив, что в Олимпии на тамошних играх дозволено присутствие жриц богини Деметры (римляне отождествляли греческую Деметру со своей Церерой).[99] Почему примером для служительницы Весты должны быть жрицы богини земледелия и плодородия — осталось понятным только самому Нерону.
Нарушить благопристойность игр могли еще лицедеи-мимы, чьи фарсы обычно носили формы, весьма далекие от приличия, чем, собственно, и привлекали толпу. Здесь Нерон проявил осторожность: лицедеи были допущены на подмостки, но не на состязания. Таким образом, священный характер игр не пострадал.
Сама по себе история отношения Нерона к мимам и их веселым, но малоприличным фарсам достаточно любопытна. В самом начале своего правления он изгнал лицедеев-мимов из Рима именно за непристойность их представлений и только спустя шесть лет, ко времени начала Нероний, дозволил им возвратиться в столицу. У современных историков, обращающихся к тем временам, это порой вызывает иронию: Нерон карает за непристойность? Но в том-то и дело, что не мог Нерон жаловать убогие и примитивные с его точки зрения уличные фарсы, способные лишь забавлять римскую чернь. Разрешил он им вернуться в Рим и вновь давать уличные представления исключительно для того, чтобы доставить удовольствие той самой римской черни, популярностью среди которой он вовсе не собирался пренебрегать. Коллегами-артистами он мимов никак не мог считать. Его театральные вкусы лежали совсем в другой плоскости: Нерон был страстным поклонником греческой трагедии времен расцвета Эллады, когда творили свое высокое искусство великие Эсхил, Софокл, Еврипид. Это была его стихия!
По окончании игр все, казалось, в Риме вернулось на свои места. Тацит не без иронии заметил: «Греческая одежда, в которую в те дни многие облачались, по миновании их вышла из употребления»[100]
Греческая одежда после Нероний вновь уступила место в столице империи традиционным римским одеяниям, но дух Греции в правление Нерона никогда не умирал, а наоборот, постоянно креп. Одним из ярчайших его проявлений было неприятие Нероном любимого зрелища римлян — гладиаторских боев, история которых в Риме к началу правления его насчитывала уже более трех столетий (начало гладиаторским боям в Риме было положено в 264 году до христианской эры). Светоний сообщает, что «в гладиаторской битве, устроенной в деревянном амфитеатре близ Марсова поля — сооружали его целый год, — он не позволил убить ни одного бойца, даже из преступников».[101] Для того чтобы привычка к таким бескровным сражениям на арене цирка стала для римлян делом обыкновенным, «он заставил сражаться даже четыреста сенаторов и шестьсот всадников, многих — с нетронутым состоянием и незапятнанным именем; из тех же сословий выбрал он и зверобоев, и служителей на арене».[102]
Устроил Нерон римлянам и оригинальную форму навмахии — морского сражения: «Показал он и морской бой с морскими животными в соленой воде».[103] Таким образом, гладиаторский бой в представлении Нерона, — это форма публичного проявления умения обращаться с оружием и на крайний случай демонстрация его умелого применения против диких животных. Но без человеческих жертв! Потому Нерон, наслаждающийся человеческим кровопролитием на цирковой арене, каким он представлен в знаменитом романе Генрика Сенкевича «Quo vadis?» («Куда идешь?»), не более чем авторский вымысел, не имеющий ничего общего с историческими реалиями.
Все это опять-таки может показаться парадоксом: один из величайших кровопийц в истории — противник кровопролития? В действительности противоречия здесь не было. Кровавые зрелища Нерон не терпел, но пролитием крови тех, кого полагал опасным для своего правления, никогда не брезговал. Но, напомним, что в этом, согласно наставлениям мудрого своего учителя Луция Аннея Сенеки, он вправе был видеть государственную необходимость, у него не могло быть уверенности, что в случае успеха заговорщиков или тех, кто таковыми казался, он сам останется жив. Наконец, он никогда не желал присутствовать при кровавых расправах, что, конечно же, совсем таковые не оправдывает.
Неприятием гладиаторских боев Нерон явно выделялся среди своих современников и совсем не в худшую сторону.
Это опять звучит парадоксом, но его единомышленники среди римлян — знаменитые мыслители, философы. Это в первую очередь великий Марк Туллий Цицерон, писавший, что «игры гладиаторов многим кажутся жестокими и бесчеловечными».[104] («Многие» здесь относится, разумеется, к просвещенной элите, но не ко всему римскому народу.) Учитель Нерона Сенека также не жаловал гладиаторские бои, что вполне могло оказать и положительное влияние на Нерона. Знаменитый философ Дион Хрисостом (40–112 гг.), чья молодость прошла в годы правления Нерона, считал гладиаторские бои явлением постыдным. Подобного мнения об этом явлении был и философ более позднего времени Флавий Филострат (170–244 гг.). Не жаловал гладиаторские бои император-философ Марк Аврелий, но он не жаловал и самого Нерона.
Взамен сражениям вооруженных людей на аренах Нерон предложил римлянам пляски воинов и здесь вновь прибег к греческому опыту. Римлянам были продемонстрированы воинские пляски отборных эфебов, молодых воинов-греков. Дабы все увидели, сколь высоко цезарь оценил танцевальное мастерство отважных эфебов, он после представления лично вручил каждому из них грамоту на римское гражданство.
К сожалению, не все представления на греческий манер оставались бескровными. Театрализация мифа об Икаре и Дедале оказалась столь же трагической, как и сам мифологический сюжет. «Икар при первом же полете упал близ императора и своею кровью забрызгал и его ложе, и его самого».[105]