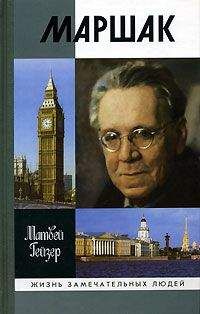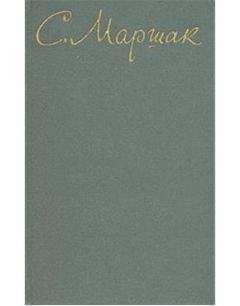Только глубокой ночью прикатил на станцию отец, взволнованный, растерянный, но с двумя глиняными лошадками в руках.
***
Об этом происшествии в дороге мы рассказали одной только матери. Нам не хотелось, чтобы родные и знакомые посмеивались над нашим добрым, щедрым без оглядки отцом.
И без того уже они считали его неисправимым мечтателем, фантазером, чудаком. Но, в сущности, только немногие из них знали и понимали его.
Он был простодушен, а не прост, по-юношески горяч и по-детски доверчив, способен бесконечно увлекаться новыми людьми и новыми идеями, но умел управлять своими чувствами и свято держал слово, данное себе самому и другим.
Это был человек неукротимой воли и стойкого терпения. Всякое дело он изучал серьезно и досконально. Казалось, легче разбудить спящего самым крепким сном человека, чем вывести его из того глубокого внимания, с каким он погружался в химическую формулу или даже в газету. Когда мы его спрашивали, почему он читает так медленно, он отвечал не то в шутку, не то всерьез:
- Вы небось только строчки читаете, а я и между строчек.
Так же сосредоточен бывал он в лаборатории или на заводском помосте у громадных клокочущих котлов. Напряженно думая о чем-нибудь, он бывал рассеян и нередко попадал в беду: то обожжет о горячее стекло пальцы, то нечаянно хлебнет вместо воды щелоку. Но всякую боль, как бы сильна она ни была, он переносил кротко и мужественно.
Гораздо больше страдал он от неудач и разочарований, которые преследовали его да каждом шагу. У него не было той житейской сноровки, которая помогает иной раз и безденежному человеку выбиться на дорогу. Мелкие дельцы-предприниматели, в руки которых он нередко попадал, сулили ему золотые горы, а потом, воспользовавшись его находками, всячески старались избавиться от человека, в котором больше не нуждались.
Оставалось одно: смириться, махнуть рукою на все неосуществленные замыслы и несбывшиеся надежды и пойти на какой-нибудь мыловаренный или маслоочистительный завод обыкновенным мастером. Служить, а не изобретать. Это давало хоть и скромное, да зато определенное жалованье. Так отец впоследствии и сделал. Проработав многие годы в провинции и в Питере и уже перевалив за пятьдесят, он поступил на завод под Выборгом, принадлежавший старой и солидной фирме братьев Сергеевых.
Название этой фирмы ("Sergejeff") можно было увидеть и на ящиках мыла, и на пивных бутылках, и на вывеске лесопильного завода. Во главе дела стоял сухой, крепкий старик, сочетавший облик русского церковного старосты со сдержанно-деловитыми манерами богатого финского коммерсанта. Его подчиненные, среди которых было много финнов с русскими фамилиями (Макеефф, Ефимофф), обычно начинали службу с должности "мальчика" и не теряли почтительности и расторопности даже тогда, когда становились бухгалтерами и "прокуристами".
Все служащие Сергеева вместе составляли как бы единую семью, возглавляемую хозяином-патриархом. Среди этой публики мой отец всегда оставался одиноким и чужим. И хоть в своем деле он считался знающим и опытным мастером, хозяева после нескольких лет работы уволили его - под тем предлогом, что он, дескать, становится староват, а производство расширяется и требует руки помоложе и покрепче.
Больше года отец искал работы. Странно и горько было видеть праздным поневоле этого еще полного сил и энергии человека, который и сам знал себе цену, и с давних пор заслужил уважение своих товарищей по профессии.
Теперь у него хватало досуга, чтобы читать книги, но чтение уже не шло ему на ум. В его близоруких, доверчивых глазах появилось такое несвойственное ему выражение озабоченности.
Наконец, уже незадолго до революции, он попытался устроиться на Кубани. Там в это время начинал работать большой нефтеперегонный завод, оборудованный на заграничный лад.
Долго пришлось ему ждать ответа.
Как стало известно потом, дирекция боялась доверить новые шведские машины русскому мастеру и собиралась выписать специалиста-шведа.
Но, по всей видимости, в Швеции не нашлось охотника ехать в Россию во время войны. К немалому удивлению администрации завода, шведы порекомендовали ей обратиться к мастеру, которого они знали по своим делам с фирмой Сергеевых, - к моему отцу.
Тут только администрация согласилась взять его на работу.
До последних своих дней работал отец на заводах. В советское время он служил в Нижнем Новгороде - в нынешнем Горьком, и, когда мой старший брат, узнав о его тяжкой болезни, поехал за ним из Ленинграда, он застал старого мастера на высоком заводском помосте - у кипящих котлов.
Он мало изменился, наш отец. Голову держал все так же прямо и гордо, как во дни молодости, по-прежнему зачесывал вверх свои черные, почти не тронутые сединой волосы. И только в минуты усталости одна прядка льнула к его большому и чистому лбу, прорезанному у переносицы такой умной и доброй, издавна знакомой нам морщинкой.
***
Я говорю здесь так подробно о своем отце не только из желания запечатлеть, сохранить дорогие мне черты. Но мне кажется, что я ничего не мог бы рассказать о ранних годах моей жизни, не уделив несколько страниц человеку, который как бы пережил со мною свое второе детство.
Он знал весь мой класс от первой до последней парты. Знал, конечно, с моих слов. Но рассказывал я ему обо всем так охотно и подробно, что от него не ускользала ни одна мелочь нашей школьной жизни. Сам он ни в каких гимназиях не учился. Однако слушал меня не из простого любопытства. По его вопросам и замечаниям, то одобрительным, то негодующим, я чувствовал, что он видит в моей жизни как бы "исправленное, дополненное и улучшенное издание" своей, которая началась в глухом захолустье и в глухие времена. Вместе со мною и моим братом он как будто и сам проходил гимназию класс за классом и потому так глубоко вникал во все наши школьные дела, придавая значение даже тем событиям, которые показались бы всякому взрослому человеку мелкими и ничтожными.
Правда, некоторые эпизоды отец оценивал по-своему и проявлял иной раз свои особые, не всегда мне понятные предубеждения и пристрастия. Так, например, он неизменно одобрял все, что бы ни делал и что бы ни говорил пришедшийся ему по сердцу Владимир Иванович Теплых. Зато он заранее осуждал все, что исходило от Сапожника - Антонова. Всячески выгораживал и брал под свою защиту нашего немца Густава Густавовича, хотя и не мог удержаться от улыбки, когда слышал в моей передаче рассказ словоохотливого Рихмана о том, как он хотел было "фехтовайт" с ворами, похитившими у него ночью из погреба "клюбничкино" варенье, но только, к сожалению, не мог вовремя отыскать свою шпагу.