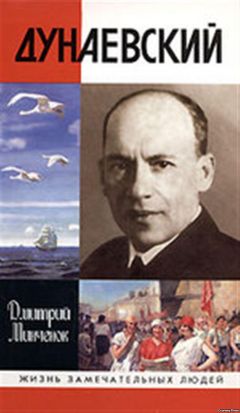Хулиганы были разрешённым недостатком советской власти. Они стали почти национальной валютой. Когда в начале тридцатых годов в Москву приехал Андре Жид, его водили в исправительные колонии и показывали настоящих хулиганов, которые перевоспитались и стали образцовыми советскими людьми. Жиду понравился визит в колонию, возможно, из-за нетрадиционных предпочтений в отношении мужской красоты. Он ввёл в заблуждение чиновников своим восторгом по поводу советских хулиганов. Они поверили, что Жид купился на их показуху. На "хулиганской" теме вовсю спекулировали художники, музыканты, артисты и танцоры. Для "создания" отрицательных героев требовались сочные краски и большая мера таланта, чем для представления правильных героев революции. Хулиганы могли танцевать запрещённые "нэпманские" танцы, куртуазно крутить в воздухе картузом и смачно выражаться на смеси французского и любого другого. Их сердце принадлежало прошлому, а костюмчик всегда был по последней моде. Именно поэтому им посвящалось такое количество произведений.
Сразу после премьеры спектакля "Мечты… мечты" Дунаевский познакомился с замечательным рапповским поэтом Михаилом Гальпериным. Он был почти копией Чехова: та же бородка клинышком, пенсне на верёвочке. Человек старой формации, поэт при встрече снимал шляпу. Дунаевский высоко ценил его талант. Позже его свяжет с Гальпериным дачный отдых. Они станут соседями по внуковским дачам, когда отойдут в прошлое РАПМы и РАППы, а двух людей сблизит любовь к солнцу и удобной жизни. Чёрная кошка никогда не пробежит между ними.
Гальперин навсегда останется в памяти как автор либретто к музыкальной комедии Дунаевского "Соломенная шляпка" по мотивам Лабиша. Одна из его дочек, Майя, станет художницей и выйдет замуж за художника, а вторая дочь — поэтессой. Во Внукове, вспоминает Евгений Исаакович, у Гальпериных был самый большой сад, в котором росли деревья, посаженные ещё помещиком Абрикосовым. Гордость сада — яблони, самые большие в той округе. Одним из этих яблок подавился сам Александр Блок, когда был в гостях в поместье Абрикосова.
Только попав в Театр сатиры, Дунаевский узнал, что такое театральный мир и по каким законам он живёт. Главным в этом мире была интрига. В то время в Театре сатиры она походила на битьё посуды на сцене или удары по музыкальным тарелкам, то есть считалась почти безобидной. Две противоборствующие группировки концентрировались вокруг двух дам — жены Феди Курихина Лёши Неверовой и её противницы Елены Хованской. Исаак Дунаевский поддерживал хорошие отношения и с той и с другой. Хованская выступала вечной дублёршей Неверовой. В пьесах, где было много ругани, враждующие актёры с удовольствием переругивались между собой от имени своих персонажей. Апофеоз этих отношений наступил в "Склоке".
Как-то к Дунаевскому подошёл Рафаил Григорьевич Корф, человек необычайно въедливый, любящий задавать вопросы. Он славился своим умением ставить в тупик, возможно, оттого, что считал себя неплохим драматургом. В соавторстве Корф написал несколько смешных пьес: "Извините за резкость" и "Довольно, бросьте", к которым Дунаевский сочинил музыку.
Характерно наклонив голову, Корф спросил:
— Я понимаю, можно написать смешную комедию, смешно сыграть роль, сделать смешные декорации. А можно ли сочинить смешную музыку? Музыку без текста, но такую, чтобы, слушая её, зрители смеялись.
— Думаю, что можно, — ответил Дунаевский.
— Очень хорошо, докажите…
— Постараюсь.
По крайней мере, так этот спор передавал режиссёр Эммануил Борисович Краснянский, постановщик многих пьес на музыку Дунаевского. Это было время странных пари. Люди заключали их и выигрывали.
Дунаевский победил эффектно. В начале 1927 года ему пришлось усиленно вспоминать своё бюрократическое прошлое: недолгую работу секретарём-корреспондентом Наркомвнешторга Украины в экспортном отделе. Известные "смехачи" Ардов и Никулин принесли в Театр сатиры пьесу "Склока". Этой пьесы с нетерпением ждали две внутри-театральные группировки. Дело в том, что персонажи в ней непрерывно ругались. Место действия было "колоссальное": на кухне коммунальной квартиры, в учреждении, на дачной железнодорожной платформе.
Дунаевский доказал, что музыка может быть смешной, как люди, как два клоуна — рыжий и белый. Надо только немного раздвинуть в улыбке рот сочинителя. Иногда смех заменяет две неправильно поставленные рядом восьмые ноты. С точки зрения гармонии, Дунаевский поставил неправильно все ноты, и получилось смешно. Давид Гутман хохотал, когда слушал эскизы у себя в квартире. Он носил подтяжки, большие, американские, которые купил у спекулянтов. Когда ему что-то нравилось, Гутман хлопал этими подтяжками по пузу, как будто стрелял из пистолета. В Дунаевского он выстрелил дважды. Тому понравилось.
В их творческой паре лидером был Дунаевский. Он предложил к каждому драматическому акту сделать музыкальное введение, нечто вроде эпиграфа, который бы настраивал зрителя на соответствующее восприятие. Для каждого места действия — своя музыка, к которой Гутман придумал смешные названия. Так появилась "коммунально-квартирная фуга". Люди, получившие строгое музыкальное образование, не могут без удовольствия слушать эту пародию на баховские фуги — своеобразную запоздалую насмешку над скучными педагогами. Ей Дунаевский расквитался с "сухарями", которые мучили его в Харькове. Жаль, что они её не услышали.
Названия других музыкальных "шедевров" не менее красноречиво говорили о характере музыки — "Учрежденческое скерцо", "Железнодорожный прелюд", "Желдор-аллегро". Эти музыкальные картинки были действительно смешны. Зрители от души хохотали и сопровождали каждое приглашение к акту дружными аплодисментами. Хованская и Неверова опять на пару играли одну и ту же героиню — жену Рафаила Корфа, персонаж которого носил фамилию Нарывайтис.
Из Симферополя Дунаевский привёз то, что вызрело под южным солнцем Крыма: любовь к работе с оркестром, идеальную стройность его звучания, интонационную чистоту. Это были золотые годы небольшого оркестра в Театре сатиры. Рина Зелёная вспоминала: "Один из оркестрантов, И. А. Иткис, пожилой человек, отличался тем, что обо всём узнавал позднее всех. Актёры часто выдумывали истории о том, что было и чего не было с ним. Молодой скрипач Яша как-то после спектакля шёл вместе с Иткисом домой. Вечер был ясный. Над Москвой сияли звёзды. Яша остановился, посмотрел на небо и сказал:
— Как странно себе представлять, что всё это мчится в бесконечном пространстве и мы вечно несёмся куда-то.
Иткис тоже остановился и строго спросил: