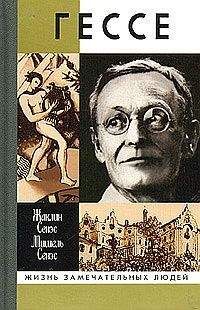В первую очередь, это Карл Август Зонневальд, говорящий о деньгах с такой интонацией, будто речь идет о дорогом существе. Сентиментальность этого полного человека, жующего сигары и буравящего клиентов взглядом хищника, одновременно и забавляет, и заставляет содрогаться. Настоящей душой предприятия, на взгляд Германа, можно скорее считать Генриха Гермеса, светского человека, владеющего несколькими языками и способного быть занятым сотней дел одновременно. Под укрытием груды книг подмастерье тайно наслаждается своими психологическими наблюдениями. «Что за свиньи! Грубые животные»! — слышатся иногда по поводу визитеров раскаты проклятий Зонневальда. Замечания герра Гермеса едва слышно шелестят, но отнюдь не менее жестоки и прозаичны. И Гессе остается верен себе: «Тут во мне загорается дикое желание сильных чувств, сногсшибательных ощущений, бешеная злость на эту тусклую, мелкую, нормированную и стерилизованную жизнь… это довольство, это здоровье, это прекраснодушие, этот благо-ухоженный оптимизм мещанина, это процветание всего посредственного, нормального, среднего».
После двенадцатичасового рабочего дня — с семи тридцати утра до семи тридцати вечера — Герман возвращается в свое уютное жилище. В доме фрау Леопольд пахнет настойками и воском. Это приют, где скиталец всегда может обрести покой: скромная благопристойная обстановка, лестничная площадка, вычищенная до блеска, вязаные салфеточки повсюду. «Я не знаю, как так всегда выходило, — напишет он в „Степном волке“, — что я, ярый противник мелкобуржуазного сознания, всегда ухитрялся жить в хороших буржуазных домах: с моей стороны это, должно быть, пережиток сентиментальности. Я никогда не жил ни в роскошных покоях, ни в пролетарских хибарах, но всегда совершенно определенно выбирал эти необыкновенно удобные, необыкновенно скучные, совершенно безупречные мелкобуржуазные гнездышки, где слегка пахнет скипидаром и мылом и где следят за тем, чтобы дверь не стучала, и не проходят в комнаты в грязной обуви». Вдова декана университета фрау Леопольд была болтлива, шумна и внимательна. Постоялец звал ее «госпожа Декан» и охотно позволял ей себя холить и лелеять. «Фрау Леопольд знает всех в Кальве, Базеле и Ливонии, всех миссионеров. Она в курсе всех событий — смертей, помолвок, болезней, путешествий и просто разных историй… Она будто сошла со страниц романа Диккенса, живая, жизнерадостная, смешливая, беспокойная, всегда готовая разразиться какой-нибудь старой историей или с выражением обезоруживающего добродушия поведать последние сплетни». Поужинав колбасой с чаем, Герман мог из своей комнаты на первом этаже созерцать замок Тюбингена. На пюпитре он рисует план своего нового обиталища, где запечатлен весь нехитрый интерьер: кровать, стол, комод, камин, — упоминает в письме сад, поросший кустами и доходящий до края поля, и отправляет вместе с расписанием распорядка на день родителям в Кальв. Он встает без двадцати семь, четыре раза в день ему приходится преодолевать расстояние, разделяющее его жилище и книжный магазин, после чего падает вечером на кровать, над которой висит портрет вюртем-бергского короля Карла.
Через некоторое время Герман получает гражданство Вюртемберга, его удостоверение личности за номером сто шестьдесят семь украшено королевской печатью. Этот немец, корни которого тянутся из Прибалтики и России, принадлежит скорее Швабии. В безумно любимом им университетском городе, «извилистом, южном, романтическом, где чуть ли не в каждом доме можно увидеть маленький портрет Рихтера68», он вполне может посоревноваться с самыми блестящими студентами. Но напрасно он выставляет напоказ в своей комнате рядом с портретами Ницше и Шопена целую коллекцию трубок, напрасно судит о людях свысока, то издеваясь над «маленькими свинячьими глазками одного», то над «неумением жить» другого, напрасно изощряется в следовании моде, старается участвовать в дружеских вечеринках его новые знакомые не расположены к долгому общению. Он стремится быть похожим на этих студентов в черных романтических плащах и демонстрирует бурную веселость и довольство жизнью в тавернах. Но простой подмастерье из книжной лавки не вхож в их общество, и если сначала он наивно и самодовольно утешал себя случайными успехами в острословии на очередной вечеринке, то очень скоро вынужден был признать: интеллектуалы держатся от него в стороне. Жестоко раненный, он страдает от своего положения и старается спрятать грязные от работы пальцы: часть дня он пишет за своим пюпитром с таким упорством, что руки начинают дрожать и почерк искажается.
В конце недели клиентов становится больше: «Если вы случайно подумаете обо мне в субботу между тремя и шестью после полудня, пишет он родителям, — знайте, что именно сейчас я переживаю самый ужасный момент моих ежедневных мучений.
В эти часы магазин переполнен, невозможно дышать, невозможно жить. Кажется, будто стоит жестокая летняя жара, и лучше умереть, чем это терпеть. По правде говоря, в это время здесь должна царить самая утонченная праздность, и я, в самом деле, почти никогда не работаю в субботу вечером, и не только из-за головной боли».
Зима. Над городом висит мгла. В семь тридцать вечера Герман заканчивает расчеты, убирает книги, закрывает кассу, снимает блузу, натягивает плащ, гасит лампы. Решительно повернувшись спиной к сверкающему огнями городу, он идет домой. Ему придется миновать квартал сомнительной репутации, пройти по его узким и темным улочкам, загрязненным нечистотами. Он идет быстрым шагом, отгоняя бродячих собак, вглядываясь в темноту, оступается, отшатывается от случайных прохожих. Человек, выбирающийся из придорожной канавы, грубо оскорбляет его на ломаном швабском диалекте. Герман испускает крик, прыгает вперед, бежит, его тошнит; наконец он бессильно опускается на стул в гостиной фрау Леопольд. Подавив только что пережитое отвращение, он готовится ко сну, но наверху слышится шум в комнате нового жильца, герра Кристаллера, студента-ориенталиста.
Тот насвистывает что-то, потом вдруг начинает громко петь, декламирует на древнееврейском, тяжело топает ботинками, не потрудившись их снять сразу по приходе. Герман в ярости. На свист сверху он отвечает своим, на бормотание выкрикивает какие-то стихи и, не выдержав, вытаскивает из футляра скрипку и извлекает несколько визгливых звуков, что отнимает у него последние силы — раздражение спадает. Он дорого бы дал, чтобы этот жилец уехал куда-нибудь подальше, где живут каннибалы.
В час ночи наконец воцаряется тишина, но Герман уже не может заснуть. Он берет Библию, Вергилия, перечитывает главы «Вильгельма Мейстера». «Я наслаждаюсь общением с Гёте», — записывает он. При свете нарождающегося дня юноша чувствует себя поэтом. И понимает, как одинок. Его дорогой Ланг заворачивает к нему не чаще раза в неделю, вечером по пятницам. Верный Румелин, состоящий в «Норманд», одном из тридцати шести университетских объединений Тюбингена, проводит время в кабачке Нордлингера.