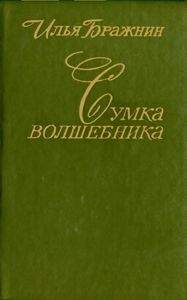Зеркало ничем не может наделить человека. А художник всегда должен чем-то наделить человека сверх того, что тот получил от слепой судьбы и статистически оформленного случая. Как только он перестаёт это делать, он перестаёт быть художником.
Нет, не зеркало орудие художнического труда. Очевидность его норм воспроизведения окружающего не даёт художнику необходимых ему неузаконенных закономерностей, необходимой свободы выбора. И не лучше ли уж заменить тогда зеркальное отражение тенями, условность которых иной раз лучше отвечает строю и природе искусства? Откиньте лишние страхи и не бойтесь слова «тень». При вдумчивом отношении, при той степени зоркости, какие необходимы художнику, переменчивая игра теней много может дать, привести ко многим догадкам и открытиям. Кроме того, они нарушают привычные мерности и развивают воображение, что всегда полезно художнику.
Всё это однажды пришло мне в голову и с той поры не оставляет меня. Я сидел и работал. Солнце глядело в окно. Слева от меня на подоконнике стояла вазочка с тополевой веткой, унизанной заострёнными почками — фиолетово-зелёными, маслянистыми, клейкими, набухающими жизнью.
Работая, я время от времени поглядывал на готовящиеся жить почки, потом на рукопись. Лежащий передо мной роман тоже набухал жизнью, готовился жить. Мои усилия направлены были на то, чтобы угадать его будущую жизнь, помочь ей стать подлинной и полнокровной. Это очень трудное и истощающее занятие. Жизни пока ещё не было в этих лежащих передо мной листках. Были пока только контуры её, какие-то тени, вроде той, которая падала на мой лист бумаги от стоящей на подоконнике ветки. На окне живая ветка, на бумаге — её тень, повторяющая рисунок этой живой ветки.
Я думал: а мой роман? Его жизнь тоже тень живой, доподлинной жизни? Да. Конечно. Только тень, сколько бы ни уверяли заносчивые авторы, что строки их — сама жизнь. Только тень. И это не так уже мало. Это по крайней мере обязывает быть очень точным в рисунке.
Как удивительно точна в рисунке тень этой милой тополевой веточки. И как благодаря этой точности переданы не только формы, но и состояния. Веточка молода. И тень молода. Наивность и неразвитость линий молодой жизни отпечатлены тенью превосходно. Тень всегда имеет возраст. Надо только приглядеться повнимательней, и это легко распознаётся.
Неправда, что тень однотонна. Нет, это вовсе не чёрная нашлёпка на полу или в дорожной пыли. Тень имеет глубину, по краям она светлей, иногда как бы растушёвана.
Тень очень подвижна и даже оживлённа. Она может лежать у ног или забраться на потолок, на вершину сосны, а то и на гору. Она может жестоко исказить оригинал и превратить его в карикатуру. Она может разозлить и рассмешить, может заставить грустно задуматься.
Впрочем, она способна и на иное. Она может подчёркивать не только недостатки, но и достоинства. Она помогает увидеть незримое и угадать незнаемое. Ты не в состоянии иногда отыскать глазом точные телесные линии, скрытые в рыхлых формах современной одежды. Она поможет их обнаружить. Она чётко очертит линии, и ты вдруг с необыкновенной отчётливостью увидишь на тени, как тонка девушка, идущая с тобой рядом, как прям её стан, как гибка талия. Ты увидишь это, не поворачивая к девушке лица. И смотри, как бы тень не сосватала тебя. Она коварна.
Она не скована мертвенной неподвижностью. Она может трепетать и переливаться, как тончайшая серо-серебристая ткань, и пока догадаешься, что это молоденькая берёзка качается за твоей спиной на ветру и игра теней её ветвей и листьев смешалась с твоей тенью, очарование этих смазанных, растушёванных зноем переливов уже вселилось в твою душу и сделало в ней своё доброе дело.
Тень может быть весёлой и пятнисто-солнечной под широкой кроной старой липы, и она может быть строгой, как монашка, под устремлённым ввысь кипарисом. Она то трепетно вздрагивает, то стыло-неподвижна.
Она может научить видеть. Вот та пятнистая пёстрая тень под липой открыла тебе, что крона липы сплетена из тончайших кружев. Ты поднял голову и увидел: да, там наверху зелёные кружева.
И неправда, что тень бескрасочна. Она может быть синей в морозный погожий денёк, розоватой на зорьке, зеленоватой в лунную ночь, серой и летучей от клубящегося из трубы дымка, фиолетовой в горах.
Роман, который лежит передо мной в исписанных и ещё чистых листках, — тень жизни живой, условный рисунок её, преображённый в плоскости повествования. Но и этот условный рисунок может быть богат оттенками и многоцветен.
Надо вглядеться в него, пристально вглядеться в «даль свободного романа», и только тогда писать.
При этом нельзя забывать — какой бы ни была тень, как причудливы ни были бы её формы, она всегда привязана к тому, что даёт эту тень, к живому.
Не может быть тени тополевой ветки без живой ветки, как не может быть тополевой ветки, растущей без самого тополя. Глядя на тень тополевой ветки, надо видеть тополь. Это и есть главное в искусстве — нарисовать тень тополевой веточки так, чтобы все увидели живой тополь. По роману читатель должен увидеть не только тот уголок жизни, который в нём условно написан, но всю громаднонесущуюся жизнь, которая лежит за рамками романа. Так нужно писать.
Все эти мысли пришли ко мне вместе с тенью тополевой веточки, случайно упавшей на лист бумаги, который я покрывал в увлечении торопливыми иероглифами душевных движений и сердечных затрат. Впрочем, «случайно» — слово, явно негодное в этом рассказе о роящихся вкруг меня мыслях. Ничто в нём не случайно — ни мысли, ни веточка тополя. Я сам поставил веточку на подоконник, как ставлю каждую весну. Я сам привёл к себе нужные мысли. Они родились не сегодня, эти мысли. Они были всегда со мной, очень давно во всяком случае. Но вместе собрал их я всё же сегодня. Это удалось сделать, глядя на тень ветки.
Кстати, тень появляется только тогда, когда есть свет, есть солнце.
А роман? Где же солнце романа? И есть ли оно вообще? Несомненно есть. Солнце романа — это его автор. Он должен освещать всё сущее в романе, как и всё лежащее за его условными рамками, своим собственным светом, своим знанием того, что ложится на строки и между строк тенями живого. Он должен осветить всё негасимым огнём своего пылающего сердца, своей совестью. Пожалуй, самое главное — своей неподкупной и неусыпной совестью.
В разных главах по разным поводам я говорил о работе писателя над языком. Но всё это было мимоходно и не подчинено задаче если и не исчерпать вопроса, то хотя бы наметить основы языковой работы, попытаться поставить хотя бы главные вехи на этом труднейшем из писательских путей.