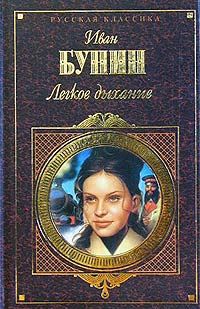«Ты лети, буржуй, воробышком», – опять буржуй и уж совсем ни к селу, ни к городу, буржуй никак не был виноват в том, что Катька была с Ванькой занята, – а дальше кровушка, зазнобушка, чернобровушка, ночки черныя, хмельныя – от этого то заборнаго, то сусальнаго русскаго стиля с несметными восклицательными знаками начинает уже тошнить, но Блок не унимается:
Из-за удали бедовой
В огневых ея очах,
Из-за родинки пунцовой
Возле праваго плеча,
Загубил я, безтолковый,
Загубил я сгоряча… Ах!
В этой архирусской трагедіи не совсем ладно одно: сочетаніе толстой морды Катьки с «бедовой удалью ея огневых очей». По-моему, очень мало идут огневыя очи к толстой морде. Не совсем, кстати, и «пунцовая родинка», – ведь не такой уж изысканный ценитель женских прелестей был Петруха!
А «под занавес» Блок дурачит публику уж совсем галиматьей, сказал я в заключеніе. Увлекшись Катькой, Блок совсем забыл свой первоначальный замысел «пальнуть в Святую Русь» и «пальнул» в Катьку, так что исторія с ней, с Ванькой, с лихачами оказалась главным содержаніем «Двенадцати». Блок опомнился только под конец своей «поэмы» и, чтобы поправиться, понес что попало: тут опять «державный шаг» и какой-то голодный пес – опять пес! – и патологическое кощунство: какой то сладкій Іисусик, пляшущій (с кровавым флагом, а вместе с тем в белом венчике из роз) впереди этих скотов, грабителей и убійц:
Так идут державным шагом -
Позади – голодный пес,
Впереди – с кровавым флагом,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной розсыпью жемчужной,
В белом венчике из роз -
Впереди – Исус Христос!
Как ни вспомнить, сказал я, кончая, того, что говорил Фауст, котораго Мефистофель привел в «Кухню Ведьм»:
Кого тут ведьма за нос водит?
Как будто хором чушь городит
Сто сорок тысяч дураков!
Вот тогда и закатил мне скандал Толстой; нужно было слышать, когда я кончил, каким петухом заорал он на меня, как театрально завопил, что он никогда не простит мне моей речи о Блоке, что он, Толстой, – большевик до глубины души, а я ретроград, контрреволюціонер и т. д.
Довольно странно было и другое знаменитое произведение Блока о русском народе под заглавіем «Скифы», написанное («созданное», как неизменно выражаются его поклонники) тотчас после «Двенадцати». Сколько было противных любовных воплей Блока: «О, Русь моя, жена моя», и олеографическаго «узорнаго плата до бровей»! Но вот, наконец, весь русскій народ, точно в угоду косоглазому Ленину, объявлен азіатом «с раскосыми и жадными очами». Тут, обращаясь к европейцам. Блок говорит от имени Россіи не менее заносчиво, чем говорил от ея имени, например, Есенин («кометой вытяну язык, до Египта раскорячу ноги») и день и ночь говорит теперь Кремль не только всей Европе, но и Америке, весьма помогшей «скифам» спастись от Гитлера;
Милльоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте сразиться с нами!
Да, скифы – мы! Да, азіаты – мы
С раскосыми и жадными очами!
Вы сотни лет глядели на Восток,
Копя и плавя наши перла,
И вы, глумясь, считали только срок,
Когда наставить пушек жерла!
Да, так любить, как любит наша кровь,
Никто из вас давно не любит!
Забыли вы, что в міре есть любовь,
Которая и жжет и губит!
Мы любим плоть – и вкус ея, и цвет,
И душный, смертный плоти запах…
Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
В тяжелых, нежных наших лапах?
Привыкли мы, хватая под уздцы
Играющих коней ретивых,
Ломать коням тяжелые крестцы
И усмирять рабынь строптивых…
В этих комических угрозах, в этой литературщине, которой я привожу лишь часть, есть кое что совсем непонятное, что значит, например, «копя и плавя наши перла»? Все остальное что ни слово, то золото: тьмы азіатов, раскосыя и жадныя очи, вкус и смертный запах плоти, тяжелыя, нежныя лапы, хрустящіе людскіе скелеты и даже ломаемые конскіе крестцы, хотя ломать их за игривость коней есть дело не только злое и глупое, но и совершенно невозможное физически, так что уж никак нельзя понять, почему именно «привыкли мы» к этому. «Скифы» – грубая подделка под Пушкина («Клеветникам Россіи»). Не оригинально и самохвальство «Скифов»: это ведь наше исконное: «Шапками закидаем!» (иначе говоря: нас тьмы, и тьмы, и тьмы). Но что всего замечательнее, так это то, что как раз во время «созданія» «Скифов» уже окончательно и столь позорно, как никогда за все существованіе Россіи, развалилась вся русская армія, защищавшая ее от немцев, и поистине «тьмы и тьмы скифов», будто бы столь грозных и могучих, – «Попробуйте сразиться с нами!» – удирали с фронта во все лопатки, а всего через месяц после того был подписан большевиками в Брест Литовске знаменитый «похабный мир»…
Мы с женой в конце мая того года уехали из Москвы в Одессу довольно законно: за год до февральской революціи я оказал большую услугу никоему приват доценту Фриче, литератору, читавшему где-то лекціи, ярому соціал-демократу, спас его ходатайством перед московским градоначальником от высылки из Москвы за его подпольныя революціонныя брошюрки, и вот, при большевиках, этот Фриче стал кем-то вроде министра иностранных дел, и я, явившись однажды к нему, потребовал, чтобы он немедленно дал нам пропуск из Москвы (до станціи Орша, за которой находились области оккупированныя) и он, растерявшись, не только поспешил дать этот пропуск, но предложил доехать до Орши в каком-то санитарном поезде, шедшем зачем-то туда. Так мы и уехали из Москвы, – навсегда, как оказалось, – и какое это было все-таки ужасное путешествіе! Поезд шел с вооруженной охраной, – на случай нападенія на него последних удиравших с фронта «скифов» – по ночам проходил в темноте и весь затемненный станціи, и что только было на вокзалах этих станцій, залитых рвотой и нечистотами, оглашаемых дикими, надрывными, пьяными воплями и песнями, то есть «музыкой революціи»!
В тот год власть большевиков простиралась еще на небольшую часть Россіи, все остальное было или свободно или занято немцами, австрійцами, и с их согласія и при их поддержке управлялось самостоятельно. В тот год уже шло великое бегство из Великороссіи людей всех чинов и званій, всякаго пола и возраста – всякій, кто мог, бежал в еще свободную и неголодающую Россію. И вот оказался через некоторое время и Толстой в числе бежавших. В августе приехала в Одессу его вторая жена, поэтесса Наташа Крандіевская, с двумя детьми, потом появился и он сам. Тут он встретился со мной как ни в чем ни бывало и кричал уже с полной искренностью и с такой запальчивостью, какой я еще не знал в нем:
– Вы не поверите, – кричал он, – до чего я счастлив, что удрал наконец от этих негодяев, засевших в Кремле, вы, надеюсь, отлично понимали, что орал я на вас на этом собраніи по поводу идіотских «Двенадцати» и потом все время подличал только потому, что уже давно решил удрать и при том как можно удобнее и выгоднее. Думаю, что зимой будем, Бог даст, опять в Москве. Как ни оскотинел русскій народ, он не может не понимать, что творится! Я слышал по дороге сюда, на остановках в разных городах и в поездах, такія речи хороших, бородатых мужиков насчет не только всех этих Свердловых и Троцких, но и самаго Ленина, что меня мороз по коже драл! Погоди, погоди, говорят, доберемся и до них! И доберутся! Бог свидетель, я бы сапоги теперь целовал у всякого царя! У меня самаго рука бы не дрогнула ржавым шилом выколоть глаза Ленину или Троцкому, попадись они мне, – вот как мужики выкалывали глаза заводским жеребцам и маткам в помещичьих усадьбах, когда жгли и грабили их!
Осень, а затем зиму, очень тревожную, со сменой властей, а иногда и с уличными боями, мы и Толстые прожили в Одессе все-таки более или менее сносно, кое что продавали разным то и дело возникавшим по югу Россіи книгоиздательствам, – Толстой, кроме того, получал неплохое жалованье в одном игорном клубе, будучи там старшиной, – но в начале апреля большевики взяли наконец и Одессу, обративши в паническое бегство французскія и греческія воинскія части, присланные защищать ее, и Толстые тоже стремительно бежали морем (в Константинополь и дальше), мы же не успели бежать вместе с ними: бежали в Турцію, потом в Болгарію, в Сербію и наконец во Францію чуть ни через год после, того, прожив почти пять несказанно мучительных месяцев под большевиками, освобождены были Добровольцами Деникина, – его главная армія чуть не дошла в ту, вторую, осень до Москвы, – но в конце января 1920 года опять чуть не попали под власть большевиков и тут уже навеки простились с Россіей.
Почему мы не погибли в Черном море на пути в Константинополь, одному Богу ведомо. Мы ушли из города в порт пешком, темным, грязным вечером, когда большевики уже входили в город, и едва втиснулись в несметную толпу прочих беженцев, набившихся в маленькій, ветхій греческій пароход «Патрас», а нас было четверо: с нами был знаменитый русскій ученый Никодим Павлович Кондаков, грузный старик лет 75, и молодая женщина, бывшая секретарем его и почти нянькой. Шли мы затем до Константинополя двое суток в снежную бурю, капитан «Патраса» был пьяница албанец, не знавшій Чернаго моря, и, если бы случайно не оказался на «Патрасе» русскій моряк, заменившій его, потонул бы «Патрас» со всеми своими несчастными пассажирами непременно. А в Константинополь мы пришли в ледяные сумерки с пронзительным ветром и снегом, пристали под Стамбулом, и тут должны были идти под душ в каменный сарай – «для дезинфекции». Константинополь был тогда оккупирован союзниками, и мы должны были идти в этот сарай по приказу французскаго доктора, но я так закричал, что мы с Кондаковым «Іmmortels», «Безсмертные» (ибо мы с Кондаковым были членами Россійской Императорской Академіи), что доктор, вместо того, чтобы сказать нам: