Это был единственный раз, когда я видел и слышал Михаила Осиповича. Я тогда, естественно, не мог предполагать, что буду женат на единственной дочери Гершензона, что тридцать лет (1929–1959) буду жить в его квартире, что в моем нынешнем доме будет стоять шкаф, целиком занятый книгами Гершензона, и будет висеть его портрет, исполненный маслом по лучшей фотографии М. О. ленинградским художником Бреннером, и что я каждодневно буду помнить и думать о Михаиле Осиповиче.
В 1923 году вышел в свет сборник стихов Тютчева. Это было одно из ниспосланных мне откровений, я не знал его раньше.
Но самое важное: в 1924 году вышел в первый раз после революции однотомник Пушкина, большого формата, но без переплета, в бумажной обложке, с фронтисписом в виде малоудачной гравюры П. Я. Павлинова. Тот однотомник, что был в библиотеке моего отца и который я ни разу не раскрывал, был продан мамой в одну из голодных саратовских зим. Этот новый том Пушкина я прочел несколько раз и навечно покорился бесконечному обаянию великого поэта. Я должен сказать, что сразу выбрал те произведения, которые навсегда остались главенствующими в моем восприятии Пушкина: «Евгений Онегин», все стихотворения после выхода из Лицея, «Медный всадник», «Пиковая дама», «Повести Белкина», «Маленькие трагедии», «Граф Нулин», «Домик в Коломне». Впоследствии к этому перечню добавилась «Гавриилиада» — в однотомнике 1924 года ее еще не было. Пушкин сразу стал для меня камертоном для проверки звучания всех читавшихся мною литературных произведений, как русских, так и иноземных.
Через два года, в 1926 году, вышло первое после революции собрание сочинений Пушкина в шести томах в виде приложения к какому‑то журналу, с совершенно диким предисловием Луначарского. Он написал, что, конечно, Пушкин абсолютно чужд пролетариату, но знать его все же не мешает и на пять лет его еще хватит. Если бы я к тому времени не был глубоко обязан Луначарскому (о чем расскажу в свое время), то я отнесся бы к этому странному его суждению с величайшим презрением. Зачем ему понадобилась такая почтительность по отношению к самому глупому, самому вздорному Пролеткульту — не знаю. Но этот поистине чудовищный факт говорит очень ясно, что уже в середине двадцатых годов даже Пушкина надо было спасать от готового все поглотить одичания.
Словно ответом на эту напасть стала изданная посмертно книга Гершензона «Статьи о Пушкине».
Я читал в то время очень много и других книг. Отмечу лишь одну, произведшую на меня сильное впечатление, — антивоенный роман Герберта Уэллса «Мистер Бритлинг и война» (в английском оригинале ее название «Мистер Бритлинг видит все насквозь») — глубоко взволнованная, очень сердечная и чисто реалистическая книга высокого достоинства. В своих фантастических романах, читавшихся мною в детстве, Уэллс научил меня не бояться никакой страшной сказки, теперь он честно показал, как реальная действительность может быть ужаснее любой выдуманной беды — просто потому, что она есть на самом деле. Но лучший (и самый любимый мною) роман о современной реальной жизни из написанных Уэллсом — «Тоно — Бэнге» — я прочел позднее.
Московскую архитектуру я досконально изучил уже в первый год пребывания в Москве: мы с отцом затеяли по воскресеньям гулять по Москве и ее окрестностям, заранее намечая определенный район и высматривая заключенные в нем архитектурные сокровища. Я руководствовался прекрасным планом Москвы, приложенным к изданной Сабашниковым книге «По Москве», на которой были указаны, окрашенные для каждого века другим цветом, все старые архитектурные памятники. В 1922 году они были все еще не тронутыми. Мне казалось (а может быть, так было в действительности), что я постигаю душу города, и надо сказать, что в то время душа у Москвы была много ярче и значительнее, чем стала через 70 лет. Я на всю жизнь запомнил памятники, исчезнувшие в ходе бесконечных бессмысленных разрушений особенно 30–х годов, и радуюсь, что многие сумели сохраниться. Я особенно люблю такие: церковь Вознесения в Коломенском, церкви Николы в Чудове, Успения на Покровке, Ивана Воина на Большой Якиманке, Меншикову башню, Пашков дом (Румянцевский музей), усадьбу Найденовых на Земляном валу, дом Гагариных на Садовой, Провиантские склады, построенные Стасовым, да и ряд других зданий. Например, удивительную церковь в Дубровицах. В 1924 году я добавил к этому перечню ряд архитектурных сооружений Ленинграда, Царского Села и Петергофа, начиная с великих творений Захарова и Камерона. Я не знаю, прав ли я, думая, что можно запоминать город, а иногда и целую страну по нескольким архитектурным памятникам — вероятно, для личного душевного опыта этого достаточно. Когда я впервые был во Франции (в 1960 году), я сохранил некий самый основной образ целой страны в трех памятниках — это были готический собор в Шартре, Малый Трианон в Версале и Центр промышленности и техники на площади Дефанс в Париже, построенный в форме гиперболоида Бернаром Зеофюсом. Даже Рим, исхоженный мною вдоль и поперек, я воспринимаю не по памятника мантичной древности, холодным и мертвым, а по собору святого Петра и замечательным сооружениям Бернини и Борромини, создавшим облик современного Рима. Во второй приезд в Рим, в 1973 году, мы с Наташей жили в пансионе на авентинском холме и часто проходили мимо территории рыцарей Мальтийского ордена, на эту территорию никого не пускали, но в воротах было проделано маленькое круглое отверстие, в котором был виден вдали только купол собора святого Петра. Это было как бы квинтэссенцией всего Рима, все остальное казалось лишь приложением, дополнением к самому главному. Мы часто смотрели в это маленькое круглое отверстие, сразу напоминавшее, где мы находимся. Даже Нью — Йорк я представляю себе прежде всего по построенному Саариненом в виде готовой взлететь птицы аэровокзалу имени Джона Кеннеди, удивительному Гуггенгеймовскому музею — гениальному творению Фрэнка Ллойда Райта, да, может быть, еще Зданию Сиграм, созданному из розового стекла и бронзы Мис ван дер Роэ.
Художественные музеи Москвы, а потом и Ленинграда были тем миром, в котором жила моя душа (если она есть у человека — я‑то в этом не сомневаюсь). Я бывал в Саратове в Радищевском музее, но был еще мал и запомнил его плохо. А здесь я прежде всего столкнулся с собраниями Щукина и Морозова, находившимися еще в своих первозданных местообитаниях в Большом Знаменском переулке и на Пречистенке. Они объединились только в 1927 году. В мир мировой живописи я вошел через творения импрессионистов, Сезанна, Ван Гога, Матисса, молодого Пикассо, потом уже переходя от них к более ранним временам. Должно быть, мне сразу была сделана надежная прививка от всякой академической рутины и неподвижности — я начал со свободного дыхания и полной независимости от каких‑либо абсолютных истин и вечных правил. Хотя ни у Щукина, ни у Морозова не было ни одной работы Эдуарда Мане, и я знал его до моих поездок в 1959–1963 годах в Англию, Францию и США по репродукциям в книгах, я понял, тщательно изучив щукинское и морозовское собрания, что именно Мане является центральной и определяющей фигурой художественной эпохи, представленной в этих собраниях — и одним из величайших и прекраснейших художников мирового искусства всех времен. Я мог с полным правом написать в 1930 году уехавшей отдыхать в Калужскую область своей жене Наташе: «Мой любимый художник — Эдуард Мане». Тогда, в двадцатые годы, мое глубокое восхищение вызвали Ренуар, Писсаро, Сислей, Дега, Сезанн, Ван Гог, Тулуз — Лотрек, «голубой» и «розовый» Пикассо, Марке, Майоль — к Клоду Моне, Гогену и Родену я уже тогда отнесся несколько настороженно, хотя лишь долго спустя мог ясно обосновать свое прохладное отношение к этим художникам. Я не все понял сразу — например, мне с первой встречи очень не понравился Анри Руссо, настолько, что я несколько лет проходил в щукинском особняке комнату Руссо, не глядя на стены, а в один прекрасный день остановился и посмотрел его как следует и проникся большим к нему уважением.
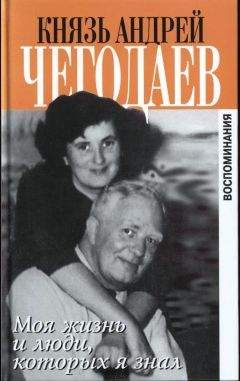
![Юлия Кулинченко - От топота копыт [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)


