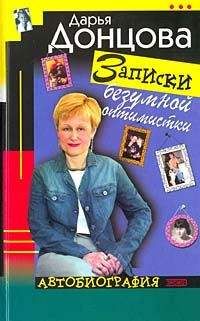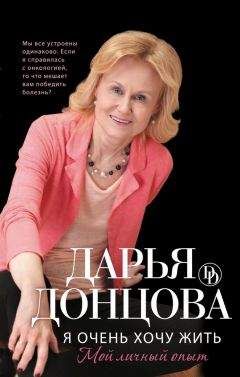Была тишина, темнота, падал снег.
Я сидела на высоком табурете, крест-накрест обхватив себя руками, забыв о полуголом, беспечно спящем в моем присутствии краснолицем или синелицем человеке (состав моих масочек давал самые разные цветовые результаты!), и время затягивало меня в свою глубокую воронку, где вспыхивали, словно искры, минуты, уже пережитые мною… Это были не воспоминания и тем более не картинки прошлого, это были переживания, которые ждали своего завершения, словно тогда, когда они происходили в действительности, душе моей не хватило на них ни сил, ни жизненного опыта.
Я знала, что снег идет здесь и сейчас, и он пахнет хвоей, но только и снег, и еловый запах вдруг высвобождались из «здесь и сейчас»: они становились приметой Москвы, в которую навеки впечатался след моих детских санок…
Жизнь переплеталась внутри, как коса, узлы в ней развязывались, а все пустоты затягивались, наподобие ран.
Почему ничего подобного не происходило со мной в другие минуты? Почему нужно было забраться в этот подвальчик, нацепить на себя розовый халат, вооружиться чужим языком, чужим, вязким голосом, слегка устыдиться своей новой роли, и тут-то оно и пришло?
Мои переживания были такими сильными, чувство вины, почти не знакомое прежде, за все, совершенное в жизни, накатывало с такой беспощадностью, что я и боялась этих минут, и упивалась ими.
Мне казалось, что я долго бежала куда-то, задыхалась, спотыкалась, ободрала руки и ноги и вдруг оказалось, что все это зря: бежать было некуда.
А главное – незачем.
Оказалось, что за все время моего марафона я ни разу не осталась наедине ни с собой, ни с тем, что копилось внутри, пока санки царапали снег на Плющихе, пока из меня, чуть живой от потери большого количества крови, вытаскивали ребенка, и доктор, который сказал мне в палате: «Забудь обо всем, мы спасем тебя», – был сам потрясен, что мы с ребенком выжили: оба. И все это – санки, и снег, и взросление; и сын, мне доставшийся чудом и кровью; и столько ошибок, и столько любви, отпущенной мне; и смертей самых близких; и лес, где сначала растили меня, поскольку наш дом был у самой опушки, а после на этой же самой опушке я тихо качала коляску с ребенком; и все эти веточки, ветви, цветочки; весь шум поездов, запах мокрой травы; какие-то встречи, какие-то слезы и радуги радостей – жило внутри, но главного я так и не поняла: прошедшего времени нет у души.
Оно есть у тела, поэтому смерть – удел только плоти, бояться тут нечего.
Время поднималось внутри, как огромная волна на знаменитой картине Хокусая, который со своим чисто японским бесстрашием написал, как вода, вся в мелких и жадных когтях, вылупившихся из ее белой пены, стоит выше гор, выше всех их снегов и выше далекого облака в небе.
Это поднявшееся из глубины всей меня и остановившееся внутри меня время ощущалось, как особая, самостоятельная величина, к которой я никогда не привыкну, потому что она больше, чем я, и все, через что я прошла и пройду.
Сладко спящему под простынкой надлежало тем не менее проснуться, чтобы я, как с дитяти, стерла с него свою волшебную масочку и предложила последовать за мной по тому же коридору, в тот же уютный холл, где он, румяный и сладко выспавшийся, должен был заплатить строгой Дэнис за красоту и полученное удовольствие.
Был тут еще один, довольно щепетильный момент: а именно – чаевые, к которым я все не могла привыкнуть, несмотря на их очевидную практическую полезность. Поначалу я вела себя самым странным образом: а именно прятала руки за спину, делая их недоступными для людской благодарности, но оставался еще карман, в который, не обращая внимания на яркую краску, заливавшую меня, умело засовывали две-три бумажки.
Теперь и это не удручало: обида на судьбу, спустившую меня с широкой гарвардской лестницы, утрачивала свою силу.
Я уже не тяготилась своей работой и не вспоминала об унижениях, пережитых за месяцы учебы. Четыре вечера в неделю я, как подарка, ждала минуты, когда под простынкой заснет человек, а я стану думать, и думать, и думать.
То, что это состояние может привести к чему-то еще, кроме слез и наслаивающихся друг на друга воспаленных переживаний, не приходило мне в голову, пока однажды вечером – особенно снежным, особенно праздничным, словно бы ждущим того, что сейчас загорится на небе звезда Рождества, хотя до Рождества еще оставались какие-то дни, – этим вечером, подробности которого остались в памяти, как будто бы все это было вчера, я вдруг достала из сумки записную книжку, ручку и стала писать без единой помарки.
Сначала подкралось простое название: «Ляля, Наташа, Тома».
Потом вспыхнула перед глазами стершаяся фотография – именно вспыхнула, несмотря на свою тусклость: моя мама в венке из ромашек. Потом – опять она, полузакрывшая лицо огромной белой кошкой и улыбающаяся из-под пушистой кошачьей головы…
Я потеряла ее в трехлетнем возрасте, и тоска этой потери не успела прорасти глубоко: я слишком мала была для такой боли. Сейчас я ощущала тоже не боль – было что-то, что я порывалась успеть записать, но память моя была куцей, короткой, отдельные факты из маминой жизни, рассказанные мне другими, мешали, и я их отбросила.
Снег шел и шел.
Мерцающий снег, словно в детстве.
И стены салона «Элизабет Грейди» меня уже не защищали от детства: мы с мамой остались в нем наедине.
Потом я исчезла.
Она была в центре: в венке из ромашек и в еле заметном венке из моих непролившихся слез…
Через две недели оказалось, что повесть «Ляля, Наташа, Тома» дописана.
За это время я поняла, что несколько месяцев «эстетической» учебы и месяц на Ньюберри-стрит пора отодвинуть, как коврик у двери.
Они отыграли свое. Отработали.
А дальше были – глубина, синева.
Похвали меня, мать Анна
Елена Нестерина, прозаик, драматург
Начала писать еще во время обучения в Литературном институте им. М. Горького. По словам автора, ее творчество можно охарактеризовать как социальную фантастику с элементами чуда и волшебства. Успешно сочетает работу в издательстве, творчество и заботу о семье.
* * *
Мать Анна, ну ты-то помнишь, как маленький солдат всех спас?
Думаю, вряд ли это помнит твой жених, я, кстати, издалека наблюдаю за движением его творческой биографии. Его примечательную мандибулу и комическую фамилию я иногда вижу или на экране (по телевизору шла как-то передача про колдунов и загадки рейха) или на сцене – в самодельной актерской пьесе с продолжением. Пьеса слабенькая, да и он хоть и имеет роль начальника, а играет хуже всех, и на полюсе его черепа, противоположном мандибуле, уже образовалась плешь.