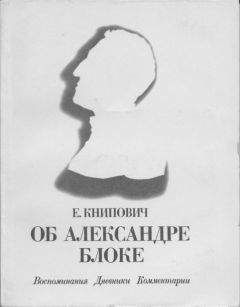Нет, Блок не расставался с Гамлетом и мыслями о нем в зрелые годы — одно из свидетельств этого содержится в письме к матери от 18 сентября 1911 года из Берлина.
Накануне Блок видел Сандро Моисеи в роли Гамлета (в спектакле театра Рейнгардта), — некоторые критические замечания в тексте письма касаются не столько игры великого актера, сколько самого героя, которого он играет: «Впрочем, нужно иметь много такта, чтобы возбуждать недоумение в роли Гамлета всего два–три раза». Еще любопытнее второе замечание. «Ужасно много разговаривает Гамлет, вчера это было мне не совсем приятно, хотя это естественный процесс творчества и английского и нашего Шекспира: все благородство молчания и аристократизм его они переселяют в женщин — и Офелия и Софья молчаливы, оттого приходится болтать принцам — Гамлету и Чацкому, как страдательным лицам, но я предпочел бы, чтобы и они были несколько «воздержаннее на язык». Оба ужасно либеральничают и этим угождают публике, которая того не стоит». В шутливом отрывке этом «нешуточно» прямое отождествление Грибоедова с Шекспиром («Наш Шекспир»). Ведь Блок считал «Горе от ума» величайшим произведением русской драматургии. «Нешуточно» и то, что сказано о «принцессах», хотя в силе остается «Полониева кровь» Офелии. О Софье же — десять лет спустя — в последних набросках к поэме «Возмездие» — появятся строки:
И — довершенье всех чудес, —
Ты, Софья… вестница небес,
Или бесенок мелкий в юбке?..
«Гамлет» не ушел из сознания и творчества Блока вместе с юностью, но уже немного лет спустя, в грозные и бурные годы первой русской революции, в творчестве его начинает сквозить совсем другой образ.
Гёте в статье «Шекспир и несть ему конца!» как бы предвосхищает мудрое изречение Вильяма Блейка «Вечность влюблена в явления времени»: «И, может быть, Шекспир на нас бы не действовал так сильно, не поставь он себя на один уровень с жизнью своей эпохи». Для Гёте милы, а тем самым оправданны все многочисленные и общеизвестные анахронизмы Шекспира, а также и то, что он, Гёте, ощущает всех героев Шекспира, даже его древних римлян, как чистокровных англичан — сыновей шекспировской Англии.
Я думаю, что он был прав. И более того, что подлинно современный герой литературы не устаревает ни с годами, ни даже со столетиями. И вот эта‑то «бессмертная» сущность «Макбета» и стала остро тревожить Блока в бурные годы истории. Впрочем, не его первого.
Без малого двести лет тому назад, в 1808 году, Август Шлегель в лекциях «О драматургии и литературе» уже почувствовал, что с великим злодеем Макбетом дело обстоит не так‑то просто. Шлегель (так же, как почти одновременно с ним Гёте) возложил ответственность за падение Макбета на дьявольские силы: Шлегель — на ведьм, Гёте — на «обер–ведьму леди Макбет».
«…Все преступления, на которые его толкает стремление обеспечить за собой плоды своего первого злодеяния, — пишет Шлегель, — не могут стереть с его образа печати прирожденного героизма… и все же, несмотря на отвращение, которое нам внушают его злодеяния, мы не можем отказать ему в сочувствии, мы оплакиваем гибель стольких благородных качеств, мы как бы против желания восхищаемся и в самом конце борьбою смелой воли с робкой совестью». А тридцать лет спустя Виссарион Григорьевич Белинский в статье о «Горе от ума» Грибоедова так говорит о том же герое: «Макбет Шекспира — злодей, но злодей с душой глубокой и могучей, отчего он вместо отвращения возбуждает участье: вы видите в нем человека, в котором заключалась такая же возможность победы, как и падения, и который при другом направлении мог бы быть другим человеком».
Шлегелю принадлежит также важное наблюдение, что в злодействе Макбета раскаяние, в сущности, предшествует преступлению.
Ну, а «Макбет» для Блока? Тут необходимо одно замечание. Блок английского языка не знал, его Шекспир — это «русский Шекспир», причем почерпнутый из переводов Кронеберга и Вейнберга, а со студенческих лет из тяжелых томов в сером переплете с черными уголками, с гербом Шекспира в верхнем левом углу. В ту пору жизни «русского Шекспира» еще не существовало переводов Радловой и Корнеева, Лозинского и Пастернака. И в обусловленных временем и эстетикой времени неточностях отражалась своя система. Но именно на этом «русском Шекспире» основано восприятие Блока — и думаю, что внутреннюю точность его не уменьшают обусловленные временем ограничения.
В третьем томе переводов сочинений Шекспира, о котором я уже упоминала, есть целый ряд маленьких «рисунков в тексте», изображающих великих исполнителей роли Макбета в XVIII и начале XIX века. Здесь и Гаррик — в камзоле лорда XVIII века, и Эдмунд Кин — почему‑то в римской тунике с двумя кинжалами в руках, и другие столь же экзотические маленькие фигурки. Но среди них во весь лист, как вкладыш, стоит изображение Генри Ирвинга — автора постановки и исполнителя заглавной роли в спектакле в лондонском театре Лисеум в 1888 году, Ирвинг — Макбет — герой «от головы до пят», чеканное, немолодое, но прекрасное лицо, отмеченное той «печатью прирожденного героизма», о которой говорил Шлегель. В крылатом шлеме, с мечом на плече, он стоит на фоне шотландских холмов, и в памяти того, кто думал о «своем Шекспире» Блока, естественно встает и статья «О театре», написанная в годы столыпинской реакции и столь же радикальная, как и статья «О реалистах», приведшая Блока к ссоре с Белым и Мережковским.
«Чем больше говорят о «смерти событий»… чем смертельней роковая усталость, подлая измученность некоторых групп современного общества, — тем звончее поют ручьи, тем шумнее гудят весны, тем слышнее в ночных полях, быстро освобождающихся от зимнего снега, далекий, беспокойный рог заблудившегося героя. Быть может, как и в былые дни, герой, шествующий в крылатом шлеме с мечом на плече, вступив на подмостки театра, встретит только жалких и нереальных ведьм, этих «пузырей земли», по слову Шекспира, бесплотных, несуществующих, «мнимых как воздух». Пусть разнесет их весенний ветер, и пусть не внушат они нового убийства и вероломства новому гламисскому тану».
Это — о театре, об искусстве, это удар по «кощунственной» формуле «искусство для искусства». Но не только. Потому что в тот же год, в то же черное и смутное время создана так и не увидевшая света рампы «Песня Судьбы», герой которой Герман («глуповатый Герман», как назвал его Блок в записных книжках десять лет спустя—в 1918 году) открыто «автобиографичен». И история того, как жажда познания и воля к подвигу увели его из белого, утонувшего в цветах и зелени дома, от любимой жены Елены, «метафорически» пересказывает реальные события биографии поэта. Нет, Герман не герой. И в конце пьесы, потерявший дорогу в снеговой замети, он — в полубреду — видит и слышит: «Какие звуки! Что это? Рог? Сухой треск барабанов. Вот он идет… идет герой — в крылатом шлеме, с мечом на плече… и навстречу. — Ты — навстречу — неизбежная? Судьба?»