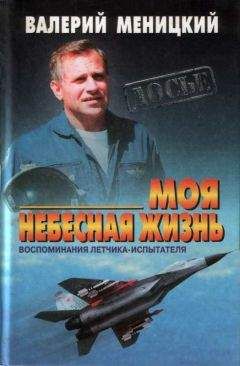дек. 1945 – май 1946 ТокарьМех. завод МВДг. Ворошилов-Уссурийск
май 1946 – май 1947 Технолог Мех. завод МВДг. Ворошилов-Уссурийск
май 1947 – апр.1948 Старший дис-
петчер завода – // – – // -
апр. 1948 – окт.1948 Зав. Клуба КВО Норильска г. Норильск
янв. 1949 – авг. 1949 Технолог Институт п/я 12 г. Жуковский
Там же была подшита написанная с массой грамматических ошибок «Анкета, заполненная инспектором ОНУ 8.12.1948»:
"...В 1945 осуждён Рев. трибун. 9 ВА Приморск.В.О. по ст.193-25а...
... наказание отбыл досрочно в г.Ворошилов-Уссурийск и пос.Норильск Красноярск. кр. в 5-48."
Невозможно было без слёз читать собственноручно написанную «Автобиографию Гарнаева Юрия Александровича от 20.02.1951»:
"... В октябре 1945 года я допустил нарушение приказа № 0150...
За это был Военным трибуналом 9 В.А. осуждён... Наказание отбывал в системе Дальлага МВД, работал токарем, затем технологом и старшим диспетчером завода. В октябре 1948 был досрочно освобождён..."
Какая чудовищная, унизительная подавленность Личности прочитывалась меж этих строк!
Но нигде, никоим образом, кроме общих формулировок «разглашений» и «нарушений приказов», конкретных причин и обстоятельств его осуждения указано не было. Его же собственные воспоминания, изложенные уже много позже и совсем не столь формально, тем не менее, мало что проясняли:
"... Я знаю, что такое война. И что такое смерть. И всё же самое трудное началось для меня потом. Случилось так, что я перестал летать. И думал, что уже никогда не поднимусь в небо. Я вернулся в Москву...
С чего начинать? Что делать? Ведь мне уже тридцать один год. И с каждым днём всё острее чувство: не могу! Хочу видеть самолёты, слышать их запах. Каждый день! Ради этого пошёл работать мотористом на аэродром, к лётчикам-испытателям. Одно время пришлось даже заведовать их клубом. Потом технологом. Лишь бы быть рядом!
А на душе горечь: на моих глазах рождалась новая реактивная авиация. Но я был только свидетелем создания новых машин. Свидетелем каждодневного подвига лётчиков-испытателей. Рыбко, Шиянов, Седов, Анохин, Амет-Хан... Раньше я только слышал о них. Теперь видел в воздухе, видел в работе. Порой в яростном поединке с новой машиной, с натиском воздуха, с давящей перегрузкой, когда лицо пилота становится почти неузнаваемым...
Да, это был мир особых людей. Законы товарищества для них непреложны и в небе, и на земле. Я понял это, когда они помогли мне снова взять в руки штурвал, хоть и было это непросто..."
... У меня оставалась ещё надежда узнать хотя бы что-то из рассказов его соратников. Я опросил многих людей: тех, кто говорил, что знает сам или знает того, кто сам слышал что-то об этом... Интересным оказалось, к примеру, то, что вообще в период 1942-45 годов в Забайкалье он был довольно известной личностью. Но совсем не как лётчик-истребитель... А как регулярно публиковавшийся лирический поэт:
Тамцак-Булак, Дайрен, Москва,
Тамбов, Мичуринск, Ленинград...
И эти нежные слова,
И белой ночи маскарад.
И море с проседью барашков
Катилось из-под облаков
К всегда открытой нараспашку
Скалистой груди берегов.
Мечта в полёте альбатроса
Крылатой вольности полна,
Костюм пилота, жизнь матроса,
Солёный ветер и волна.
Давно прожитого картины,
Любви несмелый, первый дождь,
Зовущий голос – крик утиный,
Вишнёвых дум хмельная дрожь.
Раздолье Марсового поля,
Адмиралтейства яркий шпиль,
Невы обузданная воля,
Морские штормы, зыбь и штиль.
Всё позади... А через межи
Года переступили... Вновь
Дорогой зимнего манежа
Не прибежит к тебе любовь.
Сейчас тоска и грусть Приморья,
Тайга и сопки – как гробы,
Тяжёлый час единоборья
Бродяги-пасынка судьбы.
Мукден, Харбин, Цзиньжоу, Тарту,
Норильск, Архангельск, Ленинград -
Тяни себе любую карту
Из всей колоды наугад...
И вдруг – совсем другая поэзия на резаных цементных мешках:
Перебиты, поломаны крылья,
Нам теперь уж на них не летать.
Проводила тебя эскадрилья,
Как неродная, строгая мать...
Мне довелось услышать массу историй. Говорили о самых разных версиях пропаж секретных карт или утечки сведений. Рассказывали также о том, что из расположения части бесследно исчез его непосредственный подчинённый или сослуживец, в котором заподозрили то ли дезертира, то ли перебежчика... Но никто не мог утверждать, что знает наверняка: что же всё-таки там было на самом деле!
Типичным примером явились строки письма его друга и ближайшего в то время сослуживца, боевого лётчика-истребителя Виктора Артемьевича Захарова. Отвечая на все те же невыясненные достоверно вопросы, уже в апреле 1994 года он написал в адресованном мне письме:
"...наша группа была во всех отношениях передовой, и при очередной проверке командующий ВВС ЗабВО отметил это в приказе.
...с Юрием мы стали друзьями. После переучивания я попал в полк, который базировался на «Манчжурке» ком. звена, а Юра продолжал работу в Улан-Удэ. Юрий Александрович был требовательным и, вместе с тем, подчинённые относились к нему с большим уважением. И поэтому, когда мне сообщили, что он осуждён трибуналом – я вначале не поверил, пытался несколько раз добиться встречи – не разрешили. Не верю до сих пор этим «трибунальщикам», эта публика всегда что-нибудь напутает и людей часто зря мучает...
...к сожалению, чувствую, что не смогу больше чем-либо помочь. Знаю твёрдо только одно: что Юрий был всегда честным и очень порядочным человеком".
Его честность и порядочность сомнений не вызывали ни у кого – они были доказаны всей его жизнью. И смертью. И навряд ли можно его упрекнуть в том, что он хотя бы на каком-то этапе служил не тем людям или не тем идеалам. Он просто всю жизнь делал то дело, в нужности которого для Людей у него не было и быть не могло никаких сомнений. Делал Дело и, несмотря на все столь жестокие удары, нёс в себе ту, единственную веру, с которой он сидел в лагерях, получал Звезду Героя и погибал вдали от Родины: