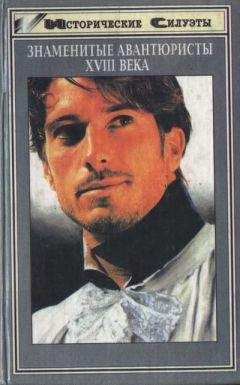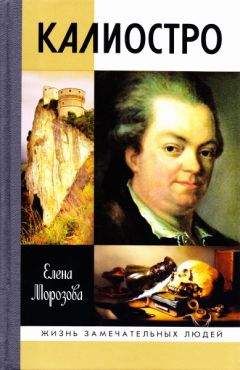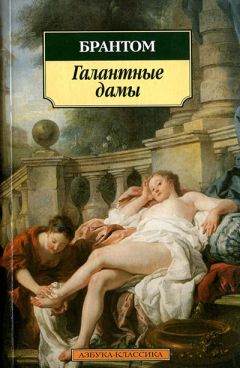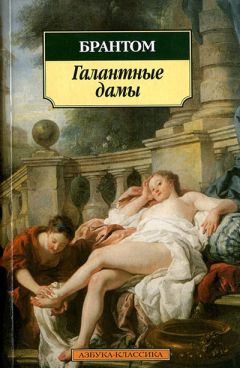Днем, несколько успокоившись от всех пережитых треволнений, Казанова вник, наконец, в поведение Лоренцо. Подлый хам, очевидно, казнил его всеми имевшимися в его распоряжении средствами за то, что узник так ловко его одурачил. Жара в келье стояла нестерпимая; ни есть, ни пить Казанова не мог, потому что все, что принес Лоренцо, никуда не годилось. Он так обессилел от духоты, испарины и жажды, что не в силах был ни читать, ни двигаться. На другой день та же история. От пищи прямо разило гнилью.
— Ты что же это? — обратился он к тюремщику. — Разве ты получил приказание уморить меня голодом и духотою?
Лоренцо, не говоря ни слова, вышел и захлопнул дверь. Казанова крикнул ему вслед, требуя бумаги и карандаш, чтобы написать жалобу секретарю инквизиции, но ответа не получил. Узник заставил себя съесть немного супу и хлеба с вином. Ему хотелось сохранить силы хоть настолько, чтобы быть в состоянии заколоть Лоренцо своим долотом, когда он явится на другой день. Обуявшая его ярость подсказывала ему, что ничего другого ему не остается. Но за ночь он успокоился. На другой день он, однако, хладнокровно и решительно объявил Лоренцо, что убьет его немедленно, как только его выпустят на свободу. Тюремщик злобно рассмеялся и вышел, не говоря ни слова.
Казанову начала терзать новая страшная мысль: ему подумалось, что Лоренцо все рассказал секретарю инквизиции и сумел представить дело в таком виде, что лично от себя отклонил беду. Секретарь же распорядился уморить Казанову медленною смертью — голодом и духотою. Положение узника становилось с каждым днем ужаснее. Он умирал от голода и жажды, последние силы покидали его.
На восьмой день этой пытки Казанова с бешеным криком потребовал от Лоренцо отчета в своих деньгах. Тот равнодушно ответил, что представит отчет завтра. Казанова схватил тюремную посудину, давно уже переполненную и нарочно не опоражниваемую, и хотел выплеснуть ее содержимое прямо в коридор. Но один из сторожей успел перехватить посудину и вынес ее. Лоренцо на минуту отворил окно, но, уходя, опять его запер и оставил Казанову среди распространившегося по камере смраду. На другой день Казанова собирался встретить его еще лютее, но, к счастью, обстоятельства переменились. Лоренцо явился в совсем ином виде и ином расположении. Прежде всего он вручил Казанове корзину лимонов, присланную Брагадином, а затем посудину с хорошей водой и очень свежего, только что зажаренного цыпленка; оба окна кельи были немедленно открыты настежь. Вместе с тем он подал Казанове счет; узник тотчас распорядился, чтобы весь остаток от расходов был передан жене Лоренцо, которая готовила кушанья, да сверх того подарил небольшую сумму сторожам, сопровождавшим Лоренцо; это расположило бедняков в его пользу.
Оба сторожа вышли, Лоренцо остался с глазу на глаз с арестантом, и между ними, наконец, состоялось необходимое объяснение.
— Вы мне уже сказали, синьор, — так начал Лоренцо, — что все нужное для того, чтобы проделать громадную дыру, вы получили от меня; пусть будет так, не будем больше говорить об этом. Но вот что мне любопытно знать: кто доставил вам те припасы, какие понадобились для долбления дыры?
— Вы же сами.
— Этого я от вас не ожидал; я знал, что вы человек изворотливый, но не думал, что вы способны лгать в глаза.
— Я не лгу. Вы собственными руками дали мне все, что было надо, — масло, кремень, серянки, а остальное у меня было.
— Это правда. Но неужели вы и до сих пор продолжаете утверждать, что я же вам доставил в инструменты для долбления дыры?
— Разумеется, потому что мне неоткуда было их взять, кроме как от вас.
— Господи Боже! Да неужели вы станете уверять, что и топор я же вам доставил?
— Если хотите, я вам все расскажу, и расскажу по чистой совести, но только не иначе, как в присутствии секретаря инквизиции.
— Нет, уж лучше я не хочу ничего знать. Не забудьте, что я человек бедный и что у меня есть дети, не выдавайте меня!
Он схватился обеими руками за голову и вышел, а Казанова от души поздравил себя с возобновлением и окончательным подтверждением своей победы над этою бестиею. Ясно было, что Лоренцо должен оставить все происшествие в полном секрете от начальства в своих же собственных интересах.
Вскоре после того Казанова попросил Лоренцо купить ему новых книг. Тюремщику этот расход не нравился; все, что шло на книги, пропадало для его кармана. Он начал отговаривать Казанову покупать книги, сказал ему, что в тюрьме есть другие арестанты, у которых много разных книг, и что с ними можно сделать обмен: Казанова может послать им свои книги, а те пришлют взамен свои. Казанова чрезвычайно обрадовался этому предложению. Пользуясь безграмотством Лоренцо, он мог войти в сношения с другими арестантами. Он тотчас дал ему одну из своих книг, и через несколько минут Лоренцо вернулся и принес ему взамен другую, взятую от кого-то из заключенных книгу. Казанова тотчас отменил покупку и этим обрадовал Лоренцо.
Рассматривая принесенную книгу, Казанова нашел на одной странице шестистишие, представлявшее парафраз стиха Сенеки: «Calamitosus est animus futuri anxius» (Кто тревожится грядущими бедами, тот несчастлив). Казанова решил тотчас написать от себя кое-что. Важно было только начать переписку, т. е. узнать, желает ли его товарищ по заключению войти с ним в сношения. Чем писать — это не затрудняло Казанову. Он еще раньше отрастил себе ноготь на мизинце, служивший ему уховерткой. Казанова очинил его наподобие пера, а чернилами для него послужил сок тутовых ягод, которые у него были. Он написал также шесть стихов (он не приводит их содержания) и сверх того на отдельном листке написал полный каталог своих книг и спрятал его за корешок переплета. В то время в Италии книги переплетали обыкновенно в пергамент, и переплет, как и теперь, на ребре или спинке тома не приклеивался, при разгибании же книги отдувался, образуя более или менее просторный канал. В этот-то канал Казанова и вложил свой каталог, а чтобы дать о нем знать своему корреспонденту, написал на первой странице латинское слово: «Latet», т. е. спрятано. Книга в таком виде была передана неведомому товарищу по заключению через ничего не подозревавшего Лоренцо, который тотчас принес другую книгу на обмен. Как только Лоренцо вышел, Казанова развернул эту книгу и нашел в ней записку на латинском языке. В записке корреспондент извещал, что он монах по имени Марино Бальби, по происхождению знатный венецианец, а его товарищ по камере — граф Андреа Асквино, родом из провинции Фриуле. Этот последний был старожилом тюрьмы; у него была порядочная библиотека, и он обязательно предоставлял ее в распоряжение Казановы. Таким образом, между двумя камерами завязалась деятельная переписка.