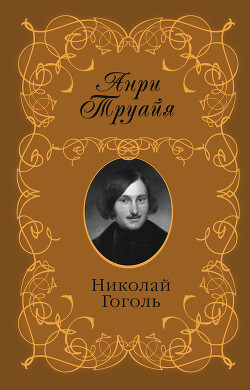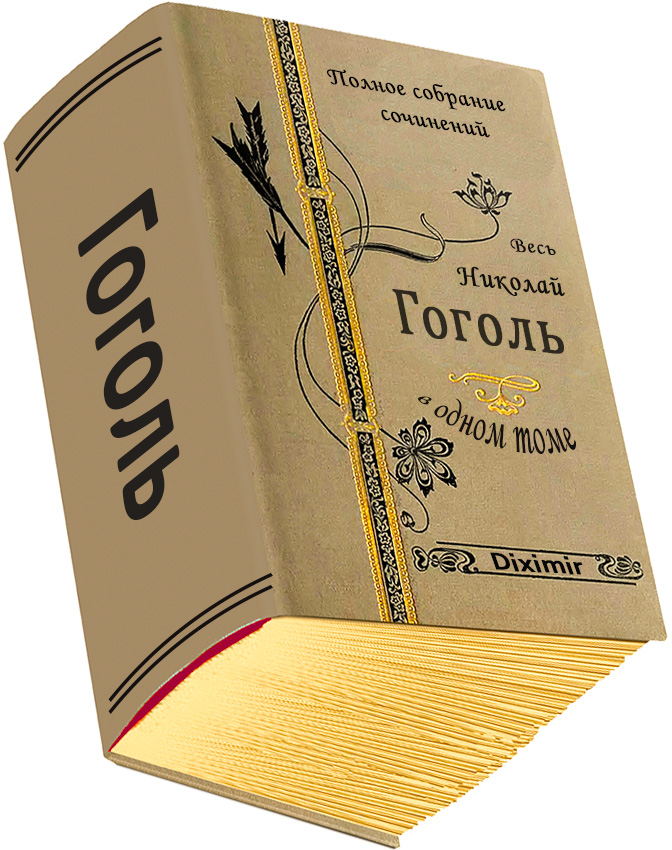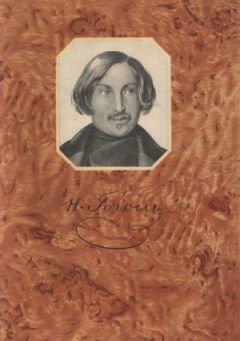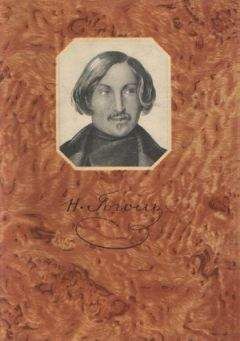«Ради бога, не предавайся грустным мыслям, будь весел, как весел теперь я, решивший, что все на свете трын-трава. Терпением и хладнокровием все достанешь. Еще просьба: ради всего нашего, ради нашей Украйны, ради отцовских могил, не сиди над книгами. Черт возми, если они не служат теперь для тебя к тому только, чтобы отемнить свои мысли. Будь таков, как ты есть, говори свое, и то как можно поменьше. Студенты твои такой глупый будет народ, особливо сначала, что, право, совестно будет для них слишком много трудиться. Но, впрочем, лучше всего ты делай эстетические с ними разборы. Это для них полезнее всего, скорее разовьет их ум, и тебе будет приятно. Так делают все благоразумные люди. Таким образом поступает и Плетнев, который нашел – и весьма справедливо, – что все теории – совершенный вздор и ни к чему не ведут. Он теперь бросил все прежде читанные лекции и делает с ними в классе эстетические разборы, толкует и наталкивает их морду на хорошее. Он очень удивляется тому, что ты затрудняешься, и советует, со своей стороны, тебе работать прямо с плеча, что придется. Вкус у тебя хорош. Словесность русскую ты знаешь лучше всех педагогов-толмачей; итак, чего тебе больше. Послушай: ради бога, занимайся поменьше этой гнилью…» [116]
Эта «дребедень» – нужно было, однако, чтобы он и сам ею занимался, так как в начале сентября должен был начаться новый учебный год в Университете. Он боялся этих будущих слушателей, тоска в ожидании будущей работы сжимала ему грудь, – совершенно подобная той, которую испытывал Максимович. Сколь захватывающим ему казалось прокладывать широкие дороги сквозь массивы исторических событий, столь же скучным он расценивал опускаться до мелких деталей хронологии. Он чувствовал себя королем в области прожектов и рабом – в исполнении. И поскольку ни его история Украины, ни его всемирная история не вышли еще из фазы зарождения, это его должно было утомлять и в истории Средних веков. И эта обязанность, как нарочно, свалилась ему на голову именно тогда, когда он вновь почувствовал вкус к романной литературе. На протяжении последней весны он закончил несколько рассказов, в числе которых – «Портрет», «Вий», «Тарас Бульба»… Другие сюжеты вертелись у него голове. Но двое или трое римских пап, Чингисхан, Фредерик Барбрусс, Александр Невский преграждали путь воображаемым персонажам.
Глава VII
Профессор-ассистент
Было два часа пополудни, когда Гоголь прошел в аудиторию. Битком набитый зал. Узнав, что автору «Вечеров на хуторе…» было поручено чтение лекций по средневековой истории, студенты других факультетов примкнули к студентам филологического отделения, чтобы послушать вводную лекцию. Все встали в едином порыве, с шумом. Очень бледный, Гоголь неловко приветствовал собравшихся и направился к кафедре. В руках он вертел свою шляпу. От панического страха у него сводило желудок. Он медленно поднялся по ступенькам. Чуть позже вошел ректор, поприветствовал нового профессора-ассистента с началом занятий и затем грузно сел в приготовленное для него кресло.
Гоголь был один перед незнакомыми лицами публики. Юный возраст его аудитории приводил его в смущение. Сотни взглядов были устремлены на него с требовательным любопытством. Кашель стих, ноги перестали двигаться – тишина стала более глубокой. Для большей уверенности Гоголь выучил свою первую лекцию наизусть. После внутренней молитвы он приступил к лекции. Тембр его собственного голоса, звучащего громко и ясно, тотчас его успокоил. Студенты сразу же оказались завоеваны этим бледным человеком невысокого роста и болезненного вида, с пронзительным взглядом. С ними говорил не преподаватель, но – визионер, поэт. Он воскрешал для них смутные времена средневековья, вооруженные толпы Крестовых походов, священную гордость рыцарского сословия, ужасы инквизиции, загадочный труд алхимиков. Ни одного имени, ни одной даты. Зато в изобилии – общие идеи. Своего рода мираж, местами искрометного, а местами – туманного. [117]
По истечении сорока пяти минут оратор умолк перед пораженной аудиторией. Раздался взрыв аплодисментов. Сходя с помоста, он оказался окружен восторженными студентами. В восторге от своего успеха, он сказал им:
«На первый раз я старался, господа, показать вам только главный характер истории средних веков; в следующий же раз мы примемся за самые факты и должны будем вооружиться для этого анатомическим ножом…»
Раззадоренные студенты с нетерпением ждали следующей лекции. В назначенный день Гоголь прибыл с опозданием, поднялся на кафедру и начал говорить о великом переселении народов. Но на этот раз он не выучил свой текст наизусть и подыскивал фразы, спотыкался о слова с видом замешательства и вялости. «…поговорил немного о великом переселении народов, но так вяло, безжизненно и сбивчиво, что скучно было слушать, и мы не верили самим себе, тот ли это Гоголь, который на прошлой неделе прочел такую блестящую лекцию?» [118] После получасового изложения он внезапно смутился, как будто не находя более что сказать, объявил, что должен сократить лекцию, потому что его родители только что вернулись из путешествия и ожидают его дома, и посоветовал молодым людям – если они хотят знать больше деталей – обратиться к некоторым произведениям, чьи названия он им сообщит позже. Во время своего третьего появления, когда они попросили его уточнить некоторые исторические даты, он был не в состоянии им ответить, но пообещал принести в следующий раз полную хронологию. Эту хронологию он попросту переписал в одной из книг, что не укрылось от внимания студентов. Их увлечение новым профессором-ассистентом угасало раз от разу. Они все в меньшем количестве приходили на его лекции. И Гоголь – перед лицом этой малочисленной аудитории – был все менее и менее склонен всерьез готовить свои выступления. Он израсходовал свое знание и свой порыв во вступительной лекции. Теперь он занимался только тем, что перефразировал других историков и разбавлял их соусом. По своей привычке, он часто сказывался больным, иногда – чтобы вообще не приходить, иногда – чтобы сократить свое выступление. «Голова его, по случаю ли боли зубов или по другой причине, постоянно была подвязана белым платком; самый вид его был болезненный и даже жалкий, но студенты относились к нему с большим сочувствием, что было, разумеется, последствием его талантливых сочинений. Но, боже мой, что за длинный, острый, птичий нос был у него! Я не мог на него прямо смотреть, особенно вблизи, думая: вот клюнет, и глаз вон…» [119]
В октябре 1834 года, однако, у Гоголя внезапно возник повод для рвения, потому что А. С. Пушкин и В. А. Жуковский пообещали ему поприсутствовать на одной из его лекций. Для них он составил блестящий обзор по халифу Ал-Мамуну и его времени. Прибыв в Университет, он обнаружил обоих поэтов, смешавшихся с толпой студентов, в зале ожидания. Вместе они зашли в аудиторию. Почетные гости заняли место сбоку, студенты – немногочисленные – опустились на свои скамьи; а профессор-ассистент в расстроенных чувствах взошел на кафедру, как если бы он поднялся на эшафот.
Начиная с какого-то времени, дисциплина среди слушателей ослабла. Во время лекции болтали, охотно посмеивались. Только бы на этот раз они вели себя спокойно! В противном случае – какой позор перед Пушкиным, перед Жуковским!.. Чудесным образом все прошло хорошо. Текст – документированный и поэтический – свободно лился из уст Гоголя. Великая личность Ал-Мамуна пленяла молодых людей. В конце лекции Пушкин и Жуковский поздравили оратора, который не мог произнести более ни слова и еле держался на ногах.
Но это была единственная вспышка. Начиная со следующего занятия удрученные студенты вновь увидели привычного Гоголя, с его нерешительностью, туманным взглядом, неуверенными жестами и бесконечными возвращениями к «великому переселению народов». Другие преподаватели не питали к нему никакой симпатии и даже считали его самозванцем в этом университете, куда он был принят, говорили они, только по протекции.