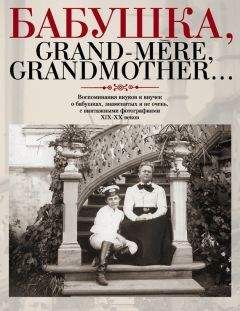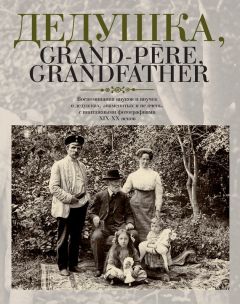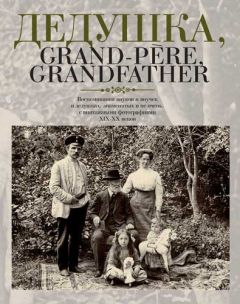…После душного зала на воздухе было так хорошо! Была яркая лунная ночь. Деревья были все в белом уборе в инее, который весь искрился, как мириады бриллиантов от яркого блеска луны, огромные пушистые ели были усыпаны снегом, от луны было светло, как днем!.. Я чувствовала себя такой счастливой, мне хотелось от счастья обнять весь мир! Я приехала в этот замечательный дом, такой красивый, уютный, фотографию которого я с детства привыкла видеть у мамы в спальне, дом, где она провела столько хороших дней! Мы шли и говорили обо всем, об искусстве, науке, природе, путешествиях, и опять
об искусстве и литературе. Как сейчас слышу голос Вениамина Аркадьевича, с воодушевлением говорящего о “Кольце нибелунга” Вагнера… “Как хорошо, что мы сюда приехали!” – "Дм, очень хорошо”,– подтвердил Вениамин Аркадьевич, и как-то вдруг мы замолчали, пора было идти домой. Наши спутники проводили нас с Верочкой до нашей комнаты, и, пожелав друг другу спокойной ночи, мы расстались до утра.
У меня закрывались от усталости глаза. Помню, Верочка, наклонившись ко мне, тихо и ласково говорит: “А профессора-то Вы, кажется, сильно пленили!” Я вдруг встала, почувствовала, что весь сон мой пропал, и, обняв Верочку, просила не говорить так, он слишком хороший человек, и тут этого не может быть! Я долго потом не могла уснуть…..Пролетели три дня, и нам пришло время уезжать. Прощаясь, я взяла с Вениамина Аркадьевича слово, что по приезде он сейчас же посетит нас на Донской, а в театре – в первую очередь спектакль “1825 год”. Верочка шутя сказала: “Ну, как всегда, надо записать адреса, а потом, конечно, не встретиться”. Это было сказано уже тогда, когда мы усаживались в сани. И только, когда лошади тронули, крикнула: “А адреса мы и не записали, звоните в театр!” – “До скорого свидания!” – услышали мы ответ Вениамина Аркадьевича…..День 22 февраля 1929 года был моим обычным трудовым днем. На работу в детский дом я шла пешком. Проходя по Крымскому мосту, я почувствовала с реки, откуда-то издалека, дуновение теплого ветра, захотелось скорей весны, тепла, отдыха. Вспоминаю, что весенняя сессия в этом году будет большая, много будет работы, а в мае съезд по глухонемоте, и я назначена делать доклад. Я пришла в группу и начала как всегда заниматься с детьми, когда из зала донесся голос: “Наташа, к телефону”. Я взяла трубку: “Вам привет из ‘СанУз-ской Республики’! Вы не забыли меня, Наталия Александровна?” “Я… забыть! Что Вы! Да я все время помню! 24-го идемте на 100-е представление спектакля ‘1825 год’ 2-го МХАТа, я Вас познакомлю со своими МХАТовскими друзьями. А вот 26-го приходите на Донскую, будет мое рождение”,– почему-то сразу сказала я, не найдя другого более удобного предлога ему прийти. Так начался наш первый чудный день, день, который стал потом таким большим, чудесным и длился 100 дней. И ежедневно мы обменивались письмами с 26 февраля до памятного дня 27 мая – дня нашей свадьбы…»
После свадьбы, обманув ожидания близких увидеть молодых в Крыму, Наташа едет к Вениамину Аркадьевичу в экспедицию. Четверо суток до Челябинска, где он встретил ее, а дальше уже вместе поездом до Кыштыма, а оттуда по озерам на лодке до озера Сунгуль, на маленький остров, где расположился небольшой старообрядческий скит и где в домике-избушке прожили они около двух месяцев, ставших сказкой их любви.
«Потом снова Узкое, после свадьбы, о, сколько оно мне дарило!.. Здесь впервые села за письменный стол с желанием писать о моей работе с заикающимися детьми, трудно было, ведь не было ничего, откуда я могла заимствовать опыт, и снова в памяти встает голос В. А.: “Как бы я хотел тебе помочь, я постараюсь вникнуть в то, что ты будешь делать, ведь это так интересно…” А потом… Сколько сложностей было в нашей жизни! Ведь нам негде было жить… и виделись по-настоящему только, когда приезжали в Узкое. И вот родилась Аленушка, и все сложности жизни пропадали в счастье, что она есть, и мы опять в Узком, у чудесного знаменитого академика Вернадского. Как он любил В. А., радовался, когда мы приезжали сюда, в родное Узкое, когда играли для него с В. А. в четыре руки Бетховена, а он сажал на большой письменный стол Аленушку и угощал конфетами».
Оба очень много работают. Уходя на работу, оставляют друг другу записки. «Моему Вениаминушке. Дорогой мой дружочек! Сегодня весь день как-то думаю о тебе, и, правда, родной мой, очень тоскливо, что мало я с тобой, ты ведь мне очень нужен! Так захотелось хоть дня два побыть друг с другом! Крепко, крепко тебя обнимаю и целую, твоя Наталушка». И еще: «Любимый мой друг! Я все время с тобой. Люблю тебя и хочу, чтобы мы вместе отдохнули. Крепко обнимаю. Твоя Наталушка». «Дорогой мой! Хотела тебе оставить записочку, чтобы не скучно было вечером одному, но совершенно не соберу мыслей. Крепко целую. Все равно твоя Наташа».
Последняя фотография мужа,
В. А. Зильберминца, 1938
Дедушка бережно хранил каждый лоскуток бумаги с ее почерком. Маме в КГБ вернули их вместе с его бумажником спустя почти 60 лет. А в бабушкином дневнике я нашла засушенный букетик ландышей, который она берегла со дня свадьбы. И письмо. Последнее письмо, написанное рукой дедушки: «26/VII-38. Дорогая Наташенька! Очень жалею, что не смогу тебя завтра повидать, как собирался. Право, даже не знаю, что писать дальше. Сейчас, едва приехал, как пришли за мной. Для меня это настолько неожиданно, что я не знаю, что и думать. Крепко целую тебя и Аленушку. Шлю всем привет. До свидания, я уверен, что мы скоро увидимся. Позаботься о себе и о доченьке. Всегда твой Вениамин».
Очевидно, что было потом. Вернадский пытался сделать все, что было в его силах, чтобы спасти своего друга и ученика. Он пишет письма Сталину, военному прокурору Москвы. Но… было уже поздно. Вынесенный приговор был приведен в исполнение в тот же день. Бабушка долго верила, что «10 лет без права переписки» нужно понимать буквально. Она носила передачи в Бутырку, а письма, которые писала каждый день, складывала в чемодан. Они сохранились, все эти письма. Их невыразимо тяжело читать, зная, что человека, к которому они были обращены, уже не было на свете.
«Мой бесконечно любимый, родной, единственный мой друг! Я начинаю эти записки не для того, чтобы в них запечатлеть весь кошмар и ужас, переживаемый нами с тобой. Горе наше, скорбь и тоска друг по другу так велики, что словами этого не передать. Я взялась за эти записи, чтобы в них отразилось другое, чтобы тогда, когда мы встретимся, а я верю, верю всем существом своим, верю так же сильно, как тогда, когда отдала тебе свое сердце, я знаю, мы будем вместе снова, и я хочу, чтобы ты тогда прочел все о доченьке, о нашей жизни с ней, о тех днях, которые уже ушли и уходят… Ради доченьки и ради тебя, мой любимый, она не увидит ни одной слезы на моих глазах. Я точно в броне какой-то: страдания, которые принесла нам эта ужасная разлука, где-то очень глубоко, я боюсь дотронуться до этого места и весь день в заботе о доченьке бережно обхожу эту нашу рану. Ночью мне тяжело: тревога за тебя, беспокойство за все, тоска, безумная тоска по тебе – ужасна. Мой любимый, родной мой, я не смогла здесь писать только о доченьке. Это будут, очевидно, записи о всем, с чем душа к тебе рвется».