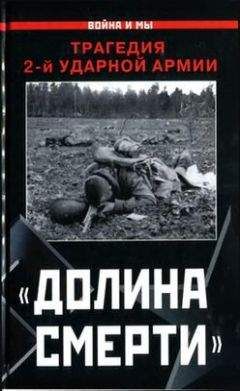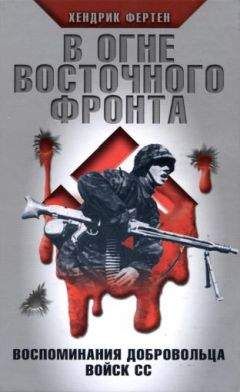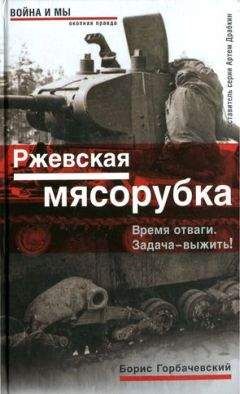Доставили меня в батальонный санвзвод в бессознательном состоянии. Очнулся, когда санитары оттирали меня спиртом от обморожения. Потом мне дали рюмку спирта для внутреннего согрева. Военврач Г. Казачок спросила о моем самочувствии и занялась раненным в живот. Им оказался мой комбат, старший лейтенант Емельянов. После обработки ран меня и Емельянова отправили на подводе, укрыв тепло полушубками, в медсанбат.
Подводу сопровождал мой первый помощник, молоденький белокурый младший лейтенант, перед самой войной окончивший пехотное училище. Ему было не более 20 лет. Всю дорогу бедняга плакал, боясь не довезти нас живыми. Он то и дело растирал нам побелевшие от мороза щеки и носы, поминутно укрывал, подбивая под бока и ноги полушубки. Особое беспокойство ему доставлял комбат, который так и не приходил в себя. Он кричал, просил пить, метался, размахивал руками, часто удары попадали мне в лицо. Можно понять, что выстрадал бедняга, мой помощник, пока не сдал нас врачам санбата.
Было, вероятно, около трех-четырех часов дня. С подводы нас сняли и на носилках внесли в жаркую избу, сплошь заставленную такими же носилками с ранеными. Меня уложили на пол возле окна. Врач осмотрел мою ногу и велел пошевелить пальцами. Потом попросил меня подождать, так как в первую очередь хирургическая помощь нужна раненным в голову и живот. Я сказал, что чувствую себя хорошо, и меня оставили в покое.
До полуночи я уступал свою очередь неоднократно, показывая врачу, как шевелятся пальцы на раненой ноге. Положили меня на операционный стол последним. Я лежал нагим. Вся комната была завешена простынями, шумел примус. Мне было так хорошо после всего пережитого за эти сутки, что не мог не улыбаться. За все время пребывания на фронте при сорокаградусном морозе, в лесу, в снегу, я ни разу не был в тепле, под крышей. Меня спросили, отчего мне так весело, и я сказал: «У вас так тепло и уютно, а я так намерзся…» Врачи ухмыльнулись: «Уютно?!» Они смертельно устали от непрерывной изнурительной работы, но, чуть отдохнув, принялись за меня. На нос и рот положили мокрую марлю, покропили из пузырька, по-видимому, эфиром. Голова тотчас закружилась, и операционный стол закачался, точно я лежал в лодке. Очнулся снова на носилках, на полу. Одет был во все теплое. Правая нога от самого тазобедренного сустава была зажата шинами. Правая рука, вернее, вся кисть правой руки, забинтована до локтя. «Вы долго не просыпались после наркоза, — сказала мне сестра, подходя с чайником и со шприцем. — Мы уже стали за вас беспокоиться». Она напоила меня чаем и сделала противостолбнячный укол. Я спросил ее: «Сестрица! Почему у меня забинтована рука?» — «У вас, к сожалению, обморожение третьей степени всей кисти. Пришлось наложить повязку. Это поможет… А комбат ваш скончался…»
Еще одна жизнь отдана за спасение Родины. А сколько наших людей осталось под ст. Спасская Полисть и сколько их ушло из жизни за полгода ожесточенных боев с фашизмом… Какое страшное бедствие — война!
Внезапно радио объявило воздушную тревогу. Забегали санитары и сестры. Меня завернули в одеяло и понесли. Пронесли по улице и куда-то осторожно положили. Это была глубокая землянка, заполненная ранеными. Снаружи глухо раздавались бомбовые удары. На этот раз я почему-то не ощутил особенной тревоги: до того был убежден, что теперь буду жить долго.
Наутро меня вместе с тремя ранеными погрузили в небольшой автобус и повезли. Я догадывался, что везут по лесной дороге, так как автобус бросало из стороны в сторону. Вскоре послышались громкие крики, ругань. Кто-то просил «подать в сторону». Потом раздалась команда: «Воздух!!!» — и сразу все стихло. Мы услышали характерный рокот немецких самолетов, низко летящих над землей. Застрочили пулеметы. Вот тут сердце мое заледенело от страха. Снова нависла смерть надо мной и моими товарищами. Но, на наше счастье, налет прекратился так же внезапно, как начался.
Сразу лес заговорил, заругался родным матом, закричал. Дверь в автобус распахнулась, и послышался взволнованный голос водителя: «Товарищи! Все живы?» Я ответил: «Живы!» — «А вы, товарищ лейтенант, не ранены? — спросил он меня. — У вас в одеяле две дырки!» Когда я сказал, что не ранен, он облегченно вздохнул: «Ну, и слава богу! Поехали дальше!» Водитель хлопнул дверкой, и через минуту-другую мы тронулись. Дальше путь проходил без происшествий.
Прибыли на ст. Малая Вишера. Меня внесли в помещение вокзала и на носилках опустили на пол среди таких же тяжелораненых, как и я. Малая Вишера была промежуточным этапом эвакуации, и я, возможно, забыл бы о нем, если б не одно обстоятельство. Между ранеными пробирался младший лейтенант, бережно ведя под руку сестру милосердия. Это был мой первый помощник, а сестра — из батальонного санвзвода. Они дружили. Сестра была ранена в лицо. Увидев меня, они подошли. Оба плакали. У девушки осколком была срезана щека и вырван глаз. Младший лейтенант рассказал, что от нашего батальона в ночь наступления на Спасскую Полисть осталось невредимыми всего 320 человек, т. е. треть состава.
Снова я осознал весь трагизм нашей провалившейся атаки. Гораздо позже я понял значение наступлений полуголодных, плохо вооруженных бойцов, но тогда был морально подавлен. Мне казалось, что кто-то виноват в бесцельной гибели людей. Нельзя было бросать нас на автоматы и крупнокалиберные пулеметы немцев безоружными!
Младшего лейтенанта пережитое так впечатлило, и он сказал, что не в силах вернуться в свой батальон. Что я мог ему возразить? Это было явное проявление трусости, слабости, но почему-то осуждать его не хотелось. Может быть, потому, что сам не считал себя героем, ибо откровенно радовался, что остался жив. И меня, к стыду моему, совершенно не тянуло снова попасть под ножи мясорубки, называемой войной.
Я сказал юноше: «Ты — на войне. И ты знаешь, что делается на войне: люди убивают друг друга. Если ты не убьешь — тебя убьют. Многие погибнут, но многие и останутся в живых. Может, тебе посчастливится выжить. Помни одно: в случае победы фашизма всем советским воинам, оставшимся в живых, грозит неминуемая физическая расправа. Мы с тобой находимся в самом пекле войны, и наш долг воевать и все делать для победы Родины. Если ты растерялся и не можешь совладать со своим страхом, то иди в штаб армии и проси другое назначение».
Конечно, Марка, за тридцать четыре года детали нашего разговора могли забыться, но общий смысл был именно таков.
После обеда меня и многих других раненых перенесли в автобусы и привезли в госпиталь г. Боровичи. Своего помощника я больше не встречал.
Госпиталь в Боровичах оставил самые мрачные воспоминания. Мы долго лежали на носилках в огромном пустынном вестибюле. Наконец пришли заспанные санитары и всех понесли в здание. Меня поместили в бывшую ванную или туалетную комнату. Вскоре я почувствовал, что мне на переносицу капает с потолка вода. Закрыл лицо рукой. Капли начали долбить по руке. Нервы напряглись до предела, казалось, еще немного этой японской пытки, и я сойду с ума. Начал звать кого-нибудь из медперсонала, но прошло довольно много времени, пока меня услышали и поместили на полу в огромном зале. Я понимал, что не имею никаких преимуществ перед другими ранеными, но, взбудораженный борьбой с каплями воды, потребовал немедленной врачебной помощи. Мне измерили температуру — 38,5 градусов — и тут же унесли на операционный стол. Хирург установил, что ранение у меня не осколочное, а пулевое, разрывной пулей. Входная рана была диаметром в 20 мм, а на вылете рваная рана длиной 16 см. После операции меня положили в палату, где и произошла моя встреча с майором Н. М. Старцевым, начштаба нашей бригады, о которой я тебе уже писал.