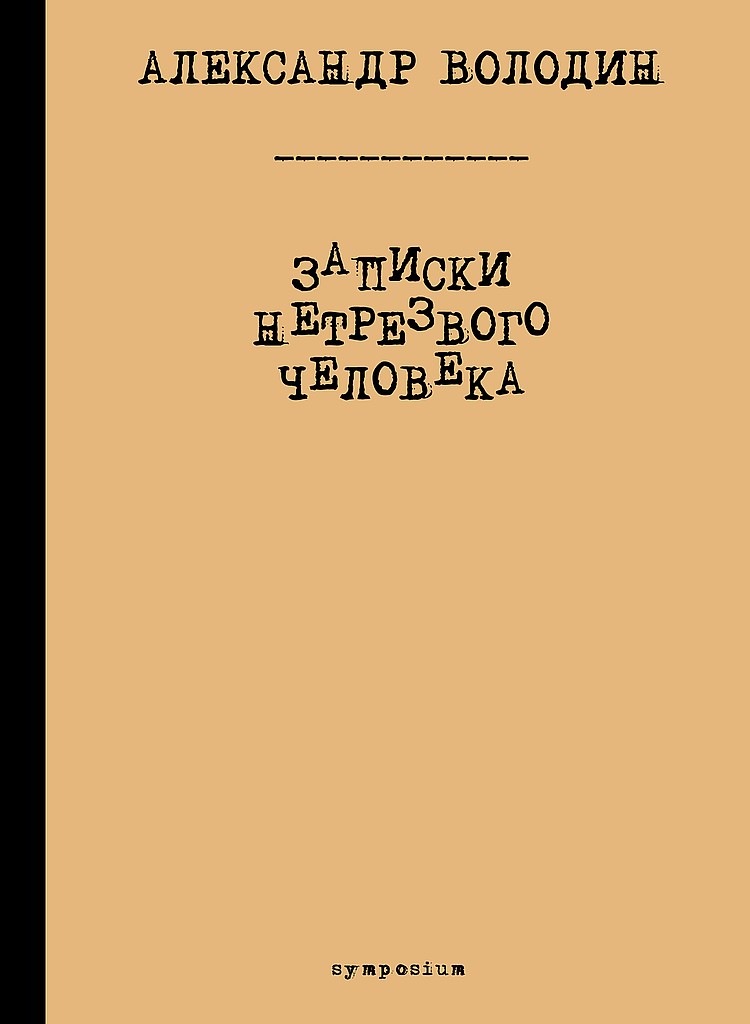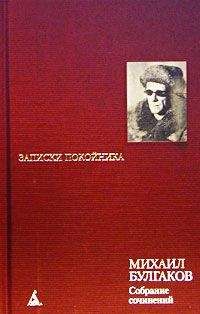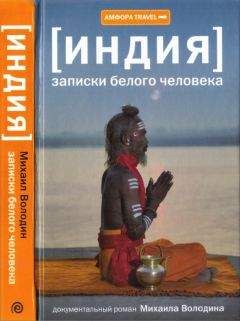утешая, погладил писателя по плечу. И снова — легкий спазм у горла.
А что сейчас с актрисой, которая играла в фильме насмешливую капризницу «Котика» (но потом утратившая капризность свою и веру в себя, и короткий взгляд ее на Ионыча с жалостью и болью…)? Эта актриса вроде бы больше и не появлялась на экране, где она сейчас? Почему не снимается? Потому что постарела?
Усталые женщины, усталые девочки, глохнущие на прядильных фабриках. Усталые девочки, усталые женщины в удушливых цехах «Красного Треугольника»… Я постарел. А вы в памяти моей все не стареете.
Единственная была у матери — стеснительная, скромная. По выходным дням ходила на лыжах, Новый год встречала с мамой и телевизором. А годы то шли, то попрыгивали, она уже преподавала в институте, уже и студентки ее повыходили замуж… Когда уезжала в дом отдыха, мать провожала ее до места, а когда пора было возвращаться, мать приезжала туда за ней. Она была единственная у матери — невзрослая, незамужняя.
Полные собою, переполненные собою до краев! Деловые, предприимчивые, валютные, полезные стране люди. Они выхватили глазом то тебя, то меня и косвенно сравнивают с собой, и каждый по-своему наполняется, переполняется еще более. Совками называют они нас. Нуворишами называем мы их. И вот, ходим между ними, подавленные их ценностью, необходимостью стране, переполненностью собою. И смешим их своими неудачами и своей несообразностью ни с чем.
Он был уволен по сокращению штатов. И по правде говоря — это разумно. Да и штат этот едва ли нужен. Устроился грузчиком в булочную. Заведующая никак не может распознать, каким способом он ворует. А он не ворует, такой человек. Но заведующая не может этому поверить, такой человек.
Она с детства очень быстро говорила. Ее определили в логопедическую школу, как не владеющую словесной речью. А она так быстро говорила потому, что быстро думала. Я это понял потому, что она и сейчас быстро думает. Надо только сосредоточиться, чтобы ее понять. Но никому неохота. Даже если и сами думаем о том же. Но — медленно, когда уже поздно и ничего не исправишь.
Читатели о «Литературной газете» (ЛГ, июнь 1991).
«Авторов своих публикаций вы выбираете несерьезных. Старовойтову, Попова, Володина, Окуджаву, Собчака, Травкина, Афанасьева, — всех, кто сеет смуту по белу свету и призывает к развалу Союза и гражданской войне. Я на месте Горбачева их давно бы пересажала.
Покровская, Волгоград».
Оранжевой краской, крупно, на стене дома:
Наверное, какой-нибудь мальчишка вывел кистью. Придет время — поймет, что был неправ. Но — какой хороший мальчишка!
Так вышло, что жизнь моя целиком уместилась в годы «печального приключения русской истории» (Шульгин). Впрочем, что я на это киваю. И сам-то я, сам, воспаленная дурость моя…
И вот, только это написал и задумался, что дальше — глянул в окошко — какое утро! И неслышно, плавно, чтобы не разбудить жену и свояченицу, пошел на кухню, к холодильнику. Там почти полная бутылка. Пока это есть — такое утро и такая бутылка — ведь можно жить! Ну кто возразит?
Один человек бился, старался долгие годы и создал, скажем, синюю кошку. Но тут все возмутились: как синяя кошка, зачем синяя кошка, кому это нужно! Но у этого человека был приятель, любящий последователь. Он подумал и сделал синюю собаку. Но так как к этой идее люди уже были немного подготовлены, то теперь это всем понравилось. Как это смело! Как это ново! Именно то, что давно всем необходимо! И синие собаки стали бегать по всем улицам.
Тем временем упомянутый человек снова вернулся к своим метаниям — сумел сделать фиолетовую лошадь. Ну, что тут началось! Его совсем затолкали, еще хуже, чем прежде. Добро бы еще синяя, это можно понять, но фиолетовая!.. Тогда его любящий последователь подумал и сделал фиолетовую корову. И все пришли в восторг, и превознесли его еще выше. За то, что он не остановился на достигнутом, но идет все дальше, открывает никому не ведомое. И фиолетовые коровы стали пастись на всех лугах.
Человек был уже совсем стар. И кто знает, суждено ли ему сделать в своей жизни что-нибудь еще? Ну, целого зеленого жирафа — не успеть. Так хоть зеленую ногу, бирюзовое копытце…
Бог мой! Приведи меня к чему-нибудь. К успокоению? К новой жизни? К единению с людьми? К преодолению пороков, слабостей моих? К смерти?
Прошло совсем немного времени, не знаю, сколько в минутах, и Он дал мне успокоение — от стыда моего за себя. Без доводов, оправдывающих меня, без новых мыслей по этому поводу. И желание общаться с людьми, сейчас, все равно с кем — так дал, просто непонятно…
В проповеди, которую услышал первой, стал ощутим масштаб Божественной Вселенной в сравнении с моими мучениями. Малозначительны они стали.
Разрушение Земли? А вместе, неотрывно — разрушение себя, того Я, которое глубоко внутри, которое задумано было, сотворено Богом. И забыто, замусорено нами. Имеем дело только с этим замусоренным собой.
Как огромен стал подарок судьбы — не думать хотя бы недолго о стыдном, скверном, грехах жизни моей. И не заметил этот подарок, просто вдруг снова вернулся к мыслям этим черным. Оказывается, был перерыв в них — подарок судьбы.
Раньше принято было спрашивать: из какой он семьи? Это сказывается на характере человека очень сильно. Я из плохой семьи. Из бесправия и унижения, без любви к родителям, их и не было — жалкий отец. Такой бесправный в глубине души, склонный к жалости ни за что, да еще самоутверждаться надо было. Всю жизнь, не замечая, презирая это — то тут, то там утверждаюсь. Да и глупо, беспомощно к тому же, получаются стыды одни из этих самоутверждений.
Приснилось: я пришел в театр на Таганке. Почему-то в солдатской шинели. Началось нечто вроде спектакля уже. Персонаж, тоже в солдатской шинели, здоровается с людьми, сидящими на наклонном фанерном щите (спектакль такой условный). Первый не ответил ему на приветствие. И второй не ответил. И уже ясно мне, что ни один не ответит. Я чем-то опозорен. Но здороваюсь и здороваюсь, зная, что я — никто.
Подходят еще какие-то люди в солдатском. И один из них понимает мое состояние. Он поднял меня с земли (пола) и обнял. Я спрятал лицо на его груди и зарыдал. Рыдаю так, что