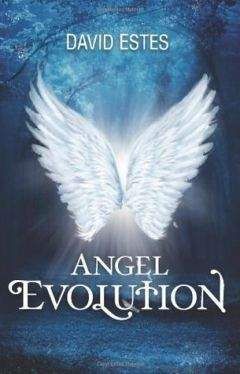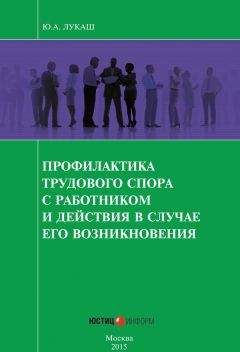Быть может, будущий историк сумеет проследить процесс дифференциации, раздробивший мыслящую Россию и сделавший невозможным для наших дней существование таких сплоченных групп. Это распыление несомненно представляет собою симптом роста, как всякое деление, как распадение клеток и клеточных колоний. Хочется верить, что и мы, как клетки, через дробление перейдем к более сложным, основанным на высшем единстве сочетаниям, подобно тому как это случилось с итальянской интеллигенцией во вторую четверть прошлого столетия. Но и преклоняясь пред биологическим законом, осудившим нас на одиночество, мы не можем без сердечного участия читать рассказы о людях 40-х годов, о крепких узах любви и доверия, связывавших пожизненно или временно таких людей, как Станкевич и Грановский, Герцен и Огарев, Грановский и Герцен, Белинский и Боткин, и т. д. Тогда царил – и не только в молодежи, но и среди зрелых людей – настоящий культ дружбы, который теперь показался бы сентиментальным и смешным; кто еще пишет теперь своему другу такие пространные и такие интимные письма, какие писали друзьям Станкевич, Белинский, Огарев? Но было бы смешно и жалеть об этом.
Нам теперь трудно и представить себе с ясностью то умственное одиночество, в какое попадал на первых порах юноша 30-х годов, испивший из кубка западной науки и опьяненный ее идеалистическим духом. Начать с того, что общий фон нашей интеллигентной жизни за эти полвека чрезвычайно изменился. Юноша наших дней, впервые начинающий прозревать и мыслить, находит, можно сказать, в самом воздухе, которым он дышит, бесчисленное множество родственных его исканиям элементов. В любой книжке журнала, в фактах, сообщаемых газетой, в беседе за чайным столом, – всюду звучат созвучные ему струны. Наша научно-популярная и чисто-научная литература, как и журналистика, разрослись неимоверно; общение с Западом, прямое и книжное, сравнительно очень облегчено. Благодаря всему этому, каждая новая доктрина быстро становится у нас достоянием интеллигентной массы и насыщает собой ее атмосферу. Лет десять назад студент, клявшийся именем Маркса, чувствовал себя, конечно, членом обширной семьи; об учении Маркса он мог говорить и с любым товарищем, и в знакомой семье, на ту же тему каждый день встречал новые статьи и книги, русские и иностранные. Совсем иначе обстояло дело в 30-х годах.
Того, что я назвал сейчас интеллигентной массой, тогда не существовало. В помещичьем и чиновничьем кругах царило глубокое невежество, и юноша, открывший свой ум просвещению, сразу попадал в совершенный разлад со своей естественной средой. Теми научными ресурсами, – книгами, журналами, лекциями, сообщениями с Западом, – которых у нас так много, он располагал в самом ничтожном количестве; естественно, что в одиночку он должен был чувствовать себя беспомощным.
Не меньшее значение имел и характер распространявшихся тогда доктрин. Между тем временем и нашим лежит блестящий расцвет естественных наук, преобразивший все отрасли знания и самую философию. Реалистический дух современной науки сделал то, что идеи, которыми освобождалось наше поколение, сравнительно близки к ежедневной жизни, сравнительно материальны и прозаичны. Люди 30-40-х годов освобождались на Шеллинге и Гегеле: то были вершины метафизического мышления, открывавшего уму безграничные, опьяняющие виды. Не частичные истины, но вся тайна космоса и человеческого бытия казалась обнаруженной в книгах этих философов, и душу прозелита при виде обетованной страны охватывал восторг почти религиозного одушевления. Из общей формулы вытекала целая программа практической деятельности, охватывавшая всю общественную и личную жизнь. Все должно было быть перестроено вновь: на место непосредственности, патриархальности, туманной мистики, авторитетов, верований и преданий должен был стать новый жизненный строй, основанный на разуме, анализе и праве; все устои общежития – брак, религия, государство – должны были стряхнуть с себя свои обветшалые формы и преобразиться. Казалось, рождается новый мир: Das alte stürzt, – es ändert sich die Zeit, – und neues Leben blüht aus den Ruinen[91]{79}. Это одушевление возносило юношу 30-х годов на такие заоблачные выси, откуда не было путей в отцовские долины. Только в недрах секты он мог найти сочувствие и поддержку; мало того, только здесь, в живом обмене мыслей и знаний мог он, при тогдашней скудости научных пособий, удовлетворять свое естественное стремление к более глубокому и всестороннему усвоению раз воспринятых им идей.
Таковы были главные причины, которыми обусловливалось возникновение знаменитых московских кружков 30-х и 40-х годов; почти так определил в одном письме 1840 г. Белинский роль кружка, в котором сложился он сам: «Воспитание, – говорит он, – лишило нас религии, обстоятельства жизни (причина которых в состоянии общества) не дали нам положительного образования и лишили всякой возможности сродниться с наукой; с действительностью мы в ссоре и по праву ненавидим и презираем ее, как и она по праву ненавидит и презирает нас. Где же убежище нам? На необитаемом острове, которым и был наш кружок»{80}. На этих островах люди со второго дня знакомства переходили на «ты», по-женски страстно любили друг друга, поверяли друг другу интимнейшие тайны, взаимно исповедовались и глубоко, искренно верили один в другого. «Я перед вами открыт», говорил Станкевич друзьям{81}; «мы друг для друга – ифика»{82}, писал гораздо позже Огарев Герцену, и так было на самом деле; об этом свидетельствует каждая строка их писем и все показания современников.
Белинский, позднее разошедшийся с Бакуниным, так объяснял после размолвки свою временную близость с ним: «Ты стремишься к высокому, и я стремлюсь к высокому – будем же друзьями: вот начало нашей дружбы»{83}. Приблизительно таково было и начало дружбы Грановского с Герценом и Огаревым. Они встретились в первый раз, как сектанты, еще не видавшие друг друга, но знающие о своей принадлежности к одной и той же секте, или как незнакомые масоны одной ложи. Они были уже не юноши; период бурных стремлений для их поколения уже прошел, уступив место настойчивой и серьезной работе в направлении к целям, поставленным юношеской мечтой. Но если прежнее опьянение и исчезло, знание и дружба по-прежнему оставались краеугольными камнями их бытия. В самой работе они продолжали углублять свои воззрения, отчужденность от среды чувствовалась на деле еще несравнимо острее, чем в школьные годы, и по-прежнему только в единомышленном круге они могли дышать и расти.