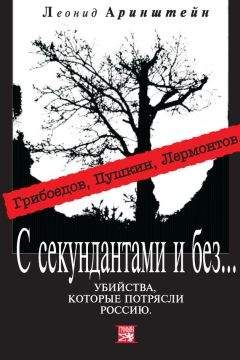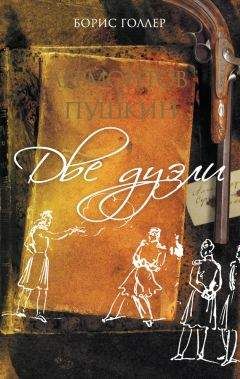Как известно, Лермонтов написал стихотворение свое сначала без заключительных 16 строк. Оно прочтено было Государем и другими лицами и в общем удостоилось высокого одобрения. Рассказывали, что Великий Князь Михаил Павлович сказал даже: «Этот, чего доброго, заменит России Пушкина»; что Жуковский признал в них проявление могучего таланта, а князь В. Ф. Одоевский по адресу Лермонтова наговорил комплиментов при встрече с его бабушкой Арсеньевой. Толковали, что Дантес страшно рассердился на нового поэта и что командир лейб-гвардии Гусарского полка утверждал, что, не сиди убийца Пушкина на гауптвахте, он непременно послал бы вызов Лермонтову за его ругательные стихи. Но сам командир одобрял их…
Сам поэт, нервно больной, расстроенный, лежал дома. Бабушка послала даже за лейб-медиком Арендтом, у которого лечился весь великосветский Петербург. Он рассказал Михаилу Юрьевичу всю печальную эпопею двух с половиной суток – с 27 по 29 января, которые прострадал Пушкин. Погруженный в думу свою, лежал Лермонтов, когда в комнату вошел его родственник камер-юнкер Николай Аркадьевич Столыпин. Он служил тогда в Министерстве иностранных дел под начальством Нессельроде и принадлежал к высшему петербургскому кругу. Таким образом, его устами гласила "мудрость" придворных салонов. Он рассказал больному о том, что в них толкуется. Сообщил, что вдова Пушкина едва ли долго будет носить траур и называться вдовою, что ей вовсе не к лицу, и т. п.
Столыпин, как и все, расхвалил стихи Лермонтова, но находил и недостатки и, между прочим, что "Мишель", напрасно апофеозируя Пушкина, слишком нападает на невольного убийцу, который, как всякий благородный человек, после всего того, что было между ними, не мог бы не стреляться. Лермонтов отвечал на это, что чисто русский человек, не офранцуженный, не испорченный, снес бы со стороны Пушкина всякую обиду во имя любви своей к славе России…
Запальчивость поэта вызвала смех со стороны Столыпина, который тут же заметил, что "у Мишеля слишком раздражены нервы". Но поэт уже был в полной ярости, он не слушал своего светского собеседника и, схватив лист бумаги… что-то быстро чертил по нем, ломая карандаши, по обыкновению, один за другим. Увидав это, Столыпин полушепотом и улыбаясь заметил: "La poesie enfante"![91] Наконец раздраженный поэт напустился на собеседника, назвал его врагом Пушкина и, осыпав упреками, кончил тем, что закричал, чтобы он сию же минуту убирался, иначе он за себя не отвечает. Столыпин вышел со словами: «Mais il est fou a lier»[92]. Четверть часа спустя Лермонтов, переломавший с полдюжины карандашей, прочел Юрьеву заключительные 16 строк своего стихотворения, дышащих силой и энергией негодования:
А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда – все молчи!..
Но есть и Божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный судия: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!
…Известность стихов Лермонтова на смерть великого поэта быстро разрослась; в то время многие почтили память усопшего стихами на кончину его, но ни в одном не звучало столько силы, таланта, любви и негодования, ни одно стихотворение так полно не выражало чувств всей России за исключением небольшого круга людей.
Святослав Афанасьевич Раевский, проживавший тогда у Лермонтова, возвратившись домой, нашел вновь сочиненные 16 стихов. Он пришел в восторг и, радуясь быстрой славе, приобретенной 22-летним поэтом, стал распространять и эти сильные стихи. Правда, ему, как и Лермонтову, приходило в голову, что за эти 16 строк можно пострадать, что им можно легко придать весьма опасное толкование, но молодые люди утешали себя тем, что Государь осыпал милостями семейство Пушкина, следовательно, дорожил поэтом, из чего, как казалось им, вытекало само собою, что можно бранить врагов поэта…
Но молодые люди не сообразили того, что со стихами происходило недоразумение. Ходили по рукам две редакции: одна, снабженная 16-ю заключительными стихами, а другая нет. Вот почему ни тогдашний начальник III Отделения Мордвинов, ни граф Бенкендорф, которому Мордвинов доложил о стихах, ничего предосудительного в них не нашли. Но вот на многолюдном рауте, если не ошибаемся, у графини Ферзен, A. M. Хитрова, разносчица всевозможных сенсационных вестей, обратилась к графу Бенкендорфу с злобным вопросом: "А вы читали, граф, новые стихи на всех нас, в которых la creme de la noblesse[93] отделывается на чем свет стоит молодым гусаром Лермонтовым?" Она пояснила, как стихи, начинающиеся словами «А вы, надменные потомки» и пр., составляют оскорбление всей русской аристократии, и довела графа до того, что он увидал необходимость разузнать дело ближе. Тогда-то раскрылось, что ходили по рукам два списка. Граф Бенкендорф знал и уважал бабушку Лермонтова Арсеньеву, бывал у нее, ему была известна любовь ее к внуку, и он искренне желал дать делу благоприятный оборот. Говорили, что, когда граф явился к Императору, чтобы доложить о стихах в самом успокоительном смысле, Государь уже был предупрежден, получив экземпляр стихов с надписью «Воззвание к революции»…
Вследствие больших связей бабушки Лермонтова Арсеньевой поэт пользовался большими льготами <на военной службе>. Он почти не жил в Царском Селе, где был расположен его полк, а проживал у бабушки в Петербурге. Так как он формального отпуска не получал, то непребывание его в месте расположения полка считалось "самовольной отлучкой". Начальник штаба Веймарн, посланный в Царское Село смотреть там бумаги поэта, нашел квартиру нетопленою, ящики стола и комодов пустыми. Отсутствие Лермонтова прикрыли внезапною болезнью его, приключившеюся при посещении внуком престарелой бабки… Болезнь Лермонтова делала, однако, необходимым разъяснение, кем было распространено стихотворение. Главным виновником оказался С. А. Раевский. Он решился взять на себя добрую часть вины.
Февраля 21-го Раевский был посажен под арест по расположению графа П. А. Клейнмихеля, Лермонтов же подвергнут домашнему аресту. Того же дня с Раевского было снято показание. Отлично сознавая важность того, чтобы показание Лермонтова не разнилось с его показанием, он черновую, писанную карандашом, положил в пакет, адресовав его на имя крепостного человека Михаила Юрьевича: "Передай тихонько эту записку и бумаги Мишелю. Я подал записку министру. Надобно, чтобы он отвечал согласно с нею, и тогда дело кончится ничем. А если он станет говорить иначе, то может быть хуже. Если сам не сможешь завтра же поутру передать, то через Афанасия Алексеевича. И потом непременно сжечь ее"…