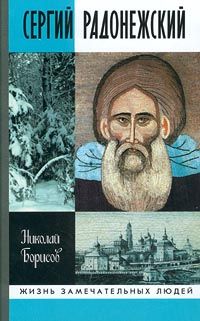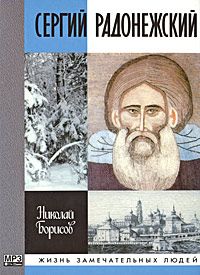— Не ори! — сказал кто-то. — Ишь, орун! А вот спросим: пошто девку себе забрал и испортил? А если на суд?
— Суд?!
Он метнулся в горницу, выкатился оттуда с саблей в руках.
— Кому суд?!
Взмахнул клинком, свистнул над чьей-то головой, зацепил жалом клок кожи.
— Уби-и-ивают!
Мужики и парни, перепуганные, побежали из избы. Девки за ними. Секлетея сползла под стол. Голосила там.
Ларион тяжело дышал. Заслышал шаги, подался вперед, занеся саблю.
В дверь протиснулся закутанный в шубу гонец князя Курбского, знакомец Лариона Гераська. Отпрянул.
— Ты чего?
Ларька признал гонца, откинул саблю, расхохотался.
— Обмер, герой?! То не на тебя. На смердов… Дай обниму! Угодил! В самый часец пожаловал!
Гость освободился от шубы, принял чарку с дороги, ухнул, обтер рукой губы.
— Крепка!.. Пошто воюешь?
— Скушно! Смерды — хамы. Садись, пировать зачнем!
— Весть у меня…
— К дьяволу косматому всяку весть! Пируем!.. Секлетея! Вылазь! Глянь, какой гость к нам!
Наутро опохмелившийся Гераська озабоченно поведал:
— Слышь, Ларион! Наказал князь ехать тебе к нему. И ратников брать.
— Пошто?
— Опять на государеву службу зовут. Опять в Ливонию, слышь.
— Эх, тогда попируем напоследок!
И они пили, шумели, парились в бане с бабами еще три дня. На четвертый же опухший Герасим влез в седло, а Ларька, нахлебавшись огуречного рассолу, захлопотал, забегал, стал собираться.
Зимнюю дорогу перемело. Ехали гуськом. Из конских ноздрей валил пар.
***
Царь принимал князя Андрея Курбского наедине.
Видно было, что ждал приезда с нетерпением. Радовался, улыбался, часто касался руки Курбского, расспрашивая о здоровье, о жене и сыновьях.
Курбский, обеспокоенный судьбой Сильвестра, Адашева, Курлетева и других советников Ивана, тревожившийся и за себя, отвечал сдержанно, смотрел пытливо.
Царь понял причину скованности князя Андрея. Оборвал расспросы. Помолчал. Глядя поверх плеча Курбского в дальний угол покоя, криво усмехнулся.
— Ну, выкладывай, что тебе нашептали уже…
— Шептаться я, государь, не свычен, — холодно ответил Курбский. — А слышал все.
Иван подался к князю всем телом, впился в него измученным взглядом.
— Что все? Что все? Бояре злобствуют, клевету пускают, неблагодарным меня ославили!.. А что Алешка и Сильвестр творили, ты знаешь? Ты сражался, воеводы гибли, а они тут сети вокруг меня плели! С послами цацкались! Затемнили мне разум, на перемирие сговорили, когда нельзя было ливонцам и часа передыху давать! И что! Плещеев бит, города ливонцы осаждают, берут, обозы мои грабят!
Царь вскочил с места.
— Ты тоже против войны с ливонцами был, но вот послал я тебя, и ты верно сражался, бился, тяготы походные терпел. А они? Они упорствовали, гадостное творили. Так ли христианам и добрым советникам поступать надлежало? Скажи, Андрей, так? Скажи!
Курбский колебался.
— Трудно верить, что по злому умыслу они, государь…
— Кабы по злому, казни бы им мало было! От гордыни, от неума! А все ж по их милости державе ущерб! Гермейстер и епископы сложа руки не сидели! Вон от императора Фердинанда уже гонец приезжал. Требуют, вишь, оставить Ливонию. Она, мол, имперская! А от Сигизмунда и посейчас посол у нас сидит. Мартин Володкович. Уже и Сигизмунд суется. Ему-де император Ливонию поручил, уходите оттуда! Шиш Сигизмунду! И Фердинанду шиш! Но никто бы и не вмешался, коли бы не мешкали и воевали изрядно! Или пушек мало было? Пороху не доставало? Людишек я жалел?
— Ты ничего не жалел, государь, твоя правда.
— Ты знаешь, знаешь, Андрей! Так почему неудачи терпим? Не хотели бояре сей войны. Против них, вишь, я решил! Только потому!.. А ты как мыслишь ныне? Уступить? Смириться?
Курбский покачал головой.
— Нет, государь. Уж коли начали, надо до конца доводить.
Иван просиял, протянул к Курбскому руки.
— Люблю тебя, князь Андрей, за верность твою. Не из тех ты, кто втихомолку шипит. Что не нравится, вслух скажешь. А за державу и веру поревновать придется — ты первый! Я же все помню, Андрей! И раны твои казанские помню, и как хана ты бил крымского, и как князьков в Сибири воевал для меня! Другие могут изменить — ты не изменишь. Благороден есть! Чист сердцем и душой!
— Род Курбских, государь, всегда своей земле и вере честно служил.
Иван словно не расслышал, что князь сказал «своей земле», а не «царю», пропустил оговорку князя мимо ушей.
— Знаю, знаю, оттого и возлюбил тебя больше всех прочих.
Понизив голос, признался:
— Горько мне, Андрей. Стремлюсь к единому — веру утвердить, христиан оборонить, державу упрочить. А кто понимает сие? О себе все думают только!.. Один митрополит да ты разумеете благо государства. Никого больше не вижу вокруг себя умом зрелых.
— Государь, русская земля никогда не была скудна умными мужами. Боюсь, не хочешь ты видеть их.
— Хотел бы, Андрей! Хотел бы! Не вижу!
— Верю я, государь, что оправдается пред тобой Алексей Адашев. И Курлетев и Плещеев тоже вину снимут.
— Дай-то бог!.. Да пока одних бед натворили. Худо в Ливонии, князь Андрей!
Они еще долго беседовали, судили о польских, литовских, шведских и крымских делах, а под конец снова вернулись к разговору о рати.
— Теперь, после бегства моих воевод, я вынужден сам идти на Ливонию или тебя, моего любимого, послать! — сказал царь. — Больше некому! Иди, князь, послужи мне! Готов ли к сему?
— Готов, государь, — ответил Курбский. — Скажи, когда идти повелишь.
Царь положил выступить московской рати, как только кончится весенняя распутица.
— Все исполним, — сказал Курбский. — Не сомневайся, государь. С божьей помощью ливонцев разобью наголову. Не впервой.
Князь Курбский сдержал свое слово. Весной предводительствуемые им войска вошли в Ливонию и направились к городу Вайсенштейну. Здесь захватили «языков». «Языки» довели, что избранный под Валком вместо Фирстенберга новый гермейстер Гергард Кетлер ушел из Ревеля и стоит с большим войском в пятидесяти верстах от города, среди прикрывающих его кнехтов болот. У гермейстера пять конных и четыре пеших полка.
У Курбского было только пять тысяч ратников. Однако он решился на бой.
— Кнехты — худые вои, — сказал он воеводам. — Мне известно, что епископы эзельский и ревельский напуганы. Они продали свои владения шведскому герцогу Магнусу и уехали в Германию. Не удивлюсь, если узнаю, что и гермейстер больше думает о бегстве, чем о битве. Стало быть, мы его побьем, а может, и изымаем.
Самым близким, в том числе и Алексею Адашеву, князь поведал и иное: