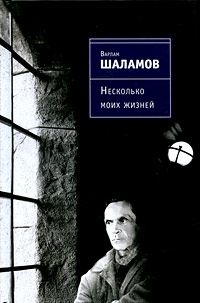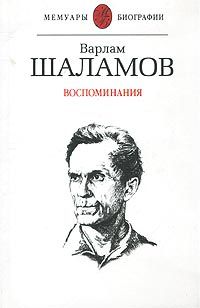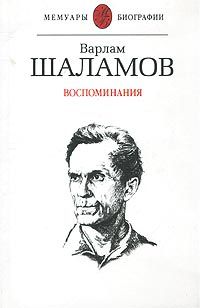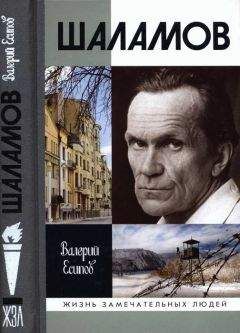Чьи-то глаза проходят по тебе, отбирая, оценивая, определяя твою пригодность скотины, коротки или длинны последние твои шаги в рай. Ты не думаешь о рае, не думаешь об аде – ты просто ежедневно чувствуешь голод, сосущий голод. [нрзб] А тот твой товарищ, кто посильнее тебя, тот бьет, толкает тебя, отказывается с тобой работать. Я тогда и не соображал, что крестьянин, жалуясь на Ивана Ивановича бригадиру, начальству, просто спасал свою шкуру. Все это мне было глубоко безразлично, все эти хлопоты над моей судьбой еще живого человека.
Я припоминаю, стараюсь припомнить все, что случилось в первую зиму, – значит, с ноября 1937 года по май 1938 года. Ибо остальные зимы, их было много, как-то встречались одинаково – с равнодушием, злобой, с ограничением запаса средств спасения: при ударе – падать, при пинке – сжиматься в комок, беречь живот больше лица.
Доносят все, доносят друг на друга с самых первых дней. Крестьянин же стучал на всех тех, кто стоял с ним рядом в забоях и на несколько дней раньше него самого умирал.
– Это вы, Иван Ивановичи, нас загубили, это вы – причина всех наших арестов.
Всё – чтобы толкнуть в могилу соседа – словом, палкой, плечом, доносом.
В этой борьбе интеллигенты умирали молча, да и кто бы слушал их крики среди злобных осатаневших лиц – не морд, конечно, а таких же доходяг. Но если у крестьянина-доходяги держался хоть кусочек мяса, обрывок нерва – он тратил его на то, чтоб донести или чтоб оскорбить соседа Ивана Ивановича, толкнуть, ударить, сорвать злость. Он сам умрет, но, пока еще не умер, – пусть интеллигент идет раньше в могилу.
Один из самых первых удержался в [памяти] Дерфель – французский коммунист, кайеннец, бывший работник ТАСС, шустрый, маленький, что было очень выгодно, – на Колыме выгодно быть маленьким. Дерфель кайлил, а я насыпал в тачку.
Дерфель:
– В Кайенне, где я был до Колымы, тоже каменоломни такие, тоже кайлил, кайло и тачка, только там нет такого холода.
А была еще осень золотая, поэтому я и запомнил день, серый камень, маленькую фигурку Дерфеля, который вдруг взмахнул кайлом и упал, и умер.
В это время всех согнали в один барак, в палатку брезентовую, где держали нас стоя, человек четыреста. Проверяли что-то – стреляли в воздух. И я увидел, что мой сосед, голландский коминтерновец в вельветовой жилетке, спит на моем плече, теряет сознание от слабости. Я его толкнул, но Фриц не очнулся, а медленно ослабел, сполз на пол. Но тут стали выводить, выталкивать из палатки, и он очнулся и вышел рядом со мной, и, выходя же, упал у барака, и больше его я никогда не видел.
Все это – Дерфель, голландец Фриц – все это поймала моя память, а то безымянное, что умирало, било, толкало, заполнило большую часть моего существа, те дни и месяцы, – я просто не припомню.
Что же там было?
Никакой «вины» перед народом я не чувствовал как «интеллигент». Но зато карьеристов, дельцов чувствую всей силой чутья – и не ошибусь.
Все это – и Дерфель, и задержка на работе бригады Клюева в декабре 1937 года – все это как бы верхние этажи моего тела. Трудно восстановить то, что не запомнилось, – боль тела и только тела.
У нас не было газет, а переписки я был лишен еще по московской бумажке. Не было желания что-либо знать о событиях вне нашего барака. Все это было так бесконечно не важно, вытеснено надолго – на десяток, а то и более лет за круг моих интересов.
Как же это случилось на моем личном примере, примере моего тела?
Уже двухмесячный этап на голодном пайке был подготовкой к более серьезным вещам – побоям, холоду, бесконечной работе, которую я встретил на «Партизане» в декабре 1937 года.
Ноги отяжелели, кожа гноилась, завелись вши, обморозились руки в пузыри. Но все это было не главное. Главным был голод постоянный. Я быстро научился есть хлеб отдельно от супа, потом кипятить, вздувать его в какой-то банке консервной и из этой банки высасывать. Никакого интереса к любым разговорам в бараке. Белье я хотел свое поменять на хлеб, но опоздал – был обыск, и все лишнее поступило в доход государству. Но и это мне было все равно. Обрывками мозга я ощущал, пожалуй, две <вещи>. Полную бессмысленность человеческой жизни. Что смерть была бы счастьем. Но на смерть нельзя было решиться по каким-то странным причинам – боль в пальцах после отморожения, в амбулаторию я не ходил, больничный фельдшер Легкодух, как все фельдшера того времени, прямо сдаст тебя в «солдаты» как интеллигента и троцкиста. Так делали все фельдшера и врачи на приисках, так делал и Лунин, и Мохнач. Через восемь лет после 37-го года так делал и Винокуров, и доктор Доктор, и Ямпольский – с больницей было опасно связываться. Но не логикой, а инстинктом животного я понимал, что мне не следует ходить туда, где толпятся «стахановцы болезни». И действительно, их всех расстреляли в гаранинские дни как балласт. А кто давал списки расстрельные? По «Партизану» это работяга Рябов, Анисимов – начальник прииска, Коваленко – начальник ОЛПа[343], Романов – уполномоченный.
Койки рядом со мной пустели. Нашу бригаду то переводили в другой барак, сливали с другой, то расформировывали, и я переходил из барака в барак. Работяга я был неважный, приходу моему в барак бригадир не радовался. Но мне, а, может быть, и им было все равно. У меня не удержалось даже в памяти, когда меня стали бить, когда я стал доходягой, которого каждый стремится ткнуть, ударить: крестьянин – чтобы обратить внимание начальства на свою политическую преданность советской власти, блатарь…
Тут возникает такое состояние, когда ты сам слабеешь, сдачи дать не в состоянии. И тут-то тебя и начинают толкать и бить. Я прошел эту дорогу к 1938 году. Но и в декабре 1937 года меня уже толкали и били…
Полз по какой-то дороге снежной, собирая обломки капустных листьев, чтобы вскипятить их в банке, сварить. Полз целую вечность, но ничего не собрал – кто-то уже прополз раньше меня, а из того, что я собрал, нельзя было сварить никакого супа. Я проглотил эти куски мерзлыми.
В это время нашу бригаду, работавшую на втором участке, перевели на первый и на этом первом участке – в бригаду Зуева. Здесь Зуев – крестьянский паренек лет 30 – интересовался грамотными людьми, которые могут ему написать жалобу, да так, что все прокурорские сердца размякнут. Зуев искал такого автора в бригаде. Зуеву дали только что срок за взятки – но он уверял, что невиновен. Важно было жалобу составить хорошо. Видя, что работяга я новый, Зуев отвел меня в сторонку и сказал:
– Вот будешь сидеть в тепле и жалобу мне писать.
– Хорошо, – сказал я. – Давай бумагу, завтра и начнем.
Даже хлеба куска этот Зуев мне не дал за жалобу, но, как ни трудно было ворочаться мозгу, я сочинил эту жалобу.
На следующий день Зуев прочел ее десятникам, те нашли, что жалоба написана плохо, прокурорские сердца не пронзит. Зуеву стало жалко своей пайки, да к тому же кто-то сказал, что он обратился за литературной помощью к врагу народа, к троцкисту.
На следующий день вместо продолжения работы над жалобой <было> избиение адвоката. Зуев сшиб меня с ног одним ударом и топтал, топтал на снегу. Вот эту плюху я помню хорошо. Уж слишком легко я упал – все, что я подумал. И хоть в кровь были разбиты зубы, мне почему-то не было больно.
Кампания физического истребления врагов народа началась на Колыме, и Зуев поспешно известил уполномоченного, что он, десятник, сделал такое страшное преступление перед государством, попросил троцкиста написать ему жалобу. Именно об этом шла речь в декабре 1938 года, когда меня арестовали на прииске и привезли в Ягодное к начальнику местного НКВД товарищу Смертину.
– Юрист?
– Юрист, гражданин начальник.
– Писал жалобы?
– Писал.
– За хлеб?
– И за хлеб, и так.
– В тюрьму его.
Но все это было через год, и только сейчас я думаю, что Зуев поспешил признать свою ошибку, написав на меня донос, признание в декабре 1937 года.
Помню, все это время я стремился где-нибудь поработать еще: уборка, пилка дров за юшку или корку хлеба. На такую работу после 14 часов забоя было нацелено все мое тело, вся моя личность, в мобилизации всех физических и духовных сил. Иногда это удавалось – то на пекарне, то на уборке, хотя было безмерно тяжело. И после этого, добираясь до койки, я падал в мертвый сон на один-два часа до нового рабочего дня. Но и Зуев – это все уже на «верхних» этажах человеческой воли.
Работал я плохо с самого первого дня. И тогда, и сейчас считаю физическую работу проклятием человека, а принудительный физический труд и высшим оскорблением человека.
Конечно, для троцкиста были отменены всякие зачеты рабочих дней и прочие лагерные <премии>.
Сражение вчистую – кто устоит на ногах, кто умрет – знать каждому было дано, именно дано.
Насилие над чужой волей считал и сейчас считаю тягчайшим людским преступлением. Поэтому и не был я никогда бригадиром, ибо лагерный бригадир – это убийца, тот человек, та физическая личность, с помощью которой государство убивает своих врагов.