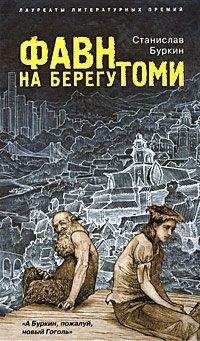— Паша, Паша! Что ты!.. — сам не свой, в сердцах закричал Суриков. — Вот оно! Нет! Этого мне не нужно! — Он схватил тряпку и моментально стер фигурку повешенного.
Он помог Паше подняться, усадил ее на стул, принес ей воды.
— Ну вот видишь — нет повешенного и не будет! — твердо сказал он и глубоко, с облегчением вздохнул.
Первый день марта пришелся на хмурое петербургское воскресенье. Оно начиналось как обычно: на укутанных в холодный туман колокольнях ударили к ранней обедне. Кухарки тащили с рынков анемично-белые кочаны капусты и битую птицу. Из пекарен тянуло свежеиспеченным хлебом и ароматом кардамона от выборгских кренделей.
Открылись ставни и двери лавчонок. Только банкирские конторы Невского проспекта да здания учебных заведений безмолвно чернели окнами. В десять часов утра на Невском в доме Юсупова открылась девятая передвижная выставка.
Накануне, после долгих хлопот устройства выставки, развешивания картин, споров, где кому висеть в залах, художники, как всегда, собрались на Мойке, близ Певческого моста, в ресторане у «Донона». Здесь решались дальнейшие планы, велись разговоры начистоту, здесь старые члены Товарищества знакомились со вновь вступающими. В этот раз их было двое: Кузнецов, представивший две небольшие, но мастерски написанные вещи, и Суриков. Василий Иванович не приехал. Он снова тяжело заболел воспалением легких, простудившись как-то в февральскую стужу на этюде, и потому он послал свое детище — громадное полотно, свернутое в трубку и зашитое в холст.
Репин, самый горячий товарищ из всего Товарищества, приложил немало стараний, чтобы картина Сурикова оказалась вовремя натянутой на подрамник и вставленной в большую золотую раму, которую Илья Ефимович сам заказал. Он был горячим поклонником «Утра», об этом убедительно свидетельствовали строчки из письма Третьякову, посланного накануне открытия выставки:
«Картина Сурикова делает впечатление неотразимое, глубокое на всех. Все в один голос высказали готовность дать ей самое лучшее место; у всех написано на лицах, что она — наша гордость на этой выставке… Сегодня она уже в раме и окончательно поставлена. Как она выиграла! Какая перспектива, как далеко ушел Петр! Могучая картина! Ну да вам еще напишут об ней… Решено Сурикову предложить сразу члена нашего Товарищества».
Ужин у «Донона» затянулся, разошлись только под утро, и сейчас, один за другим, недоспавшие, взъерошенные, появлялись художники на вернисаже.
Громадный, горбоносый старик Мясоедов (с него впоследствии Репин писал Ивана Грозного) всегда находил случай выразить свое презрение к руководству Академии художеств. Сейчас он издевательски поглядывал на деликатнейшего немца Лемоха, который был принят при дворе и обучал рисованию царского внука — будущего императора Николая Второго.
— А жандарм-то сегодня будет или нет? — громогласно- басил Мясоедов.
И бедный Лемох, понимая, что речь идет о президенте Академии великом князе Владимире, весь съеживался и с болезненной гримасой старался унять буяна.
— Ну что вы, Григорий Григорьевич! Помилуйте-с! Ну можно ли так? — лепетал он, то бледнея, то покрываясь багровыми пятнами.
— Все мы лжем и обманываем друг друга! — проворчал старик и медленно пошел по залам. В этот раз он отказался от своих жанровых сюжетов и выставил великолепный пейзаж, полный извечной русской поэзии: вечернее поле ржи с уходящей за горизонт тучей и одинокой фигурой странника на тропе. В этом пейзаже он выразил все свои чувства, он спел его, как песню.
В сером длинном пиджаке и щеголеватых башмаках стоял в группе художников Крамской, с отекшим, желтоватым лицом. Он был почти совсем седой, хоть ему и пятидесяти еще не минуло. Чувствовалось, что ему нездоровится и не все нравится. Он молча пощипывал бородку и рассеянно глядел куда-то мимо собеседников. Трудно было представить себе в нем бунтаря, открывшего новое движение в живописном искусстве. Слава Крамского, как портретиста, была непревзойденной. Он пользовался огромным влиянием и уважением среди высокопоставленных лиц. Вот и сейчас выставку украшали его работы — портреты графа Валуева, генерала Исакова, лейб-медика Боткина… Великолепные портреты!
Рядом с Крамским, оглядывая публику холодными красивыми глазами, стоял холеный и самоуверенный Владимир Маковский. Он умел дорого оценивать свой вещи, и коллекционеры привыкли платить ему больше, чем другим. Сейчас он готовился продать Третьякову свою жанровую картину, выставленную здесь, — «Крах банка». Он знал, как это произойдет, и потому был спокоен и весел.
Вот появились еще два блестящих мастера: Поленов и Ярошенко. Публика восторженно расступилась перед своими любимцами. За ними шел вечно всем недовольный, брюзга, бывший моряк Беггров и уютный, приветливый Прянишников, порадовавший любителей жанровой живописи небольшой, но выразительной сценкой: «Жестокие романсы», где молодой чиновник смущал игрой на гитаре и пением девицу-мещаночку.
Вызывая в публике движение и приглушенный рокот, появился живой, словно ртуть, Репин, с ним — ясноглазый, благообразный красавец Виктор Васнецов.
Репин. В этот раз весь талант его воплотился в веселой украинской сцене «Вечорнищ», где под доморощенный оркестрик из флейты, скрипочки и бубна украинская дивчина € парубком лихо отплясывают гопака. И все это в рыжем свете масляных плошек, где-то в хате, среди угостившихся в праздник людей, умеющих веселиться и шутить как никто. Тут же на выставке был представлен великолепный портрет недавно умершего писателя Писемского, с лицом старого русского разночинца, опершегося пухлыми руками о суковатую палку. Но никто еще не знал, что вскоре Репину предстоит встреча с великим Мусоргским, который был безнадежно болен и давно лежал в военном госпитале. Никто не знал, даже сам Репин, что за четыре дня он напишет последний портрет гениального русского композитора, в больничном халате, с тем загадочным, иронически-безразличным выражением лица, которое бывает у обреченных…
Суриковское «Утро стрелецкой казни» плотно обступила толпа. Не смолкали споры:
— Да что вы мне говорите! — шумел какой-то бородач профессорского вида. — Здесь нет простора… Толпа сгрудилась… Фигура налезает на фигуру… Храм Василия Блаженного обезглавлен… И потом, где же воздушная перспектива?..
— Вы придираетесь к мелочам, — возражал молодой кудлатый юноша в косоворотке. — Непревзойденная картина! Незыблема в своем художественном значении!
— И все же я утверждаю, что здесь многое непродуманно, — вмешался сухой, высокий господин в визитке. Время от времени он сдергивал с узкой переносицы золотое пенсне на шнурке и протирал его платком, брезгливо щурясь. — Я утверждаю, что наряду с прекрасно выписанными персонажами фигура Меншикова возле Петра просто небрежно намалевана.