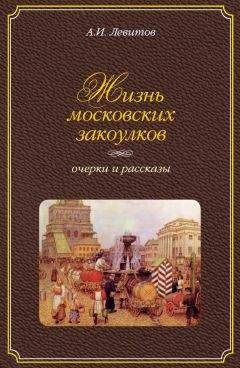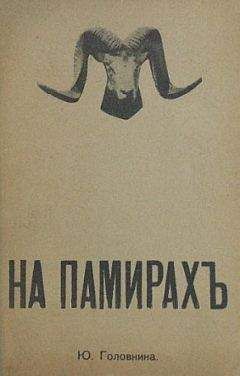– Иван, – говорит мне она, – помолчи благоразумно, а то ведь выпить не на что будет.
Воз с корзинами у моста на Грибном рынке. Фотография начала XX в. Частный архив
Я не хлопочу о хлебе, потому что не о хлебе едином жив будет человек. Я оправдываю целью средства и молчу. Молчу, закусивши бледные губы, и тогда, когда хочется мне разрешить вопрос, отчего все мое быльем поросло, и теперь молчу, когда человек, с которым я делил все, что доставал своей мозолистой работой, которого я толкнул на дорогу, на мою просьбу о ночлеге, сказал мне:
– Не могу.
– Отчего ж? – спрашиваю я.
– Да вот, видишь ли, – говорит он, – в одной комнате я сам сплю, а другая, хочется мне, чтобы всегда чистая была. Сам согласись, – говорит, – придет ежели завтра кто ко мне поутру, а ты спать тут будешь, – неловко.
– Правда, – отвечаю я ему. – Действительно, это неловко.
В моей голове промелькнуло в это время представление о том зверином голоде, который обыкновенно мучил нас обоих, когда я давал у себя приют этому человеку. Живя в столичном городе, мы были с ним беспомощны, как матросы в море, претерпевшие кораблекрушение{125}. Поистине я не согрешил бы тогда, ежели бы убил его для того, чтобы не дать ему достающейся на его долю порции черного хлеба с гнилым маслом, специально, впрочем, добытой мной. Но я не убивал его, хотя мускулы у меня, как вообще у плебеев, могу сказать, таки тово… Я ничего не сказал ему об этом представлении из нашей прошлой жизни и вышел.
Когда у меня после таких случаев бывают деньги, я обыкновенно запиваю, потому что, помню я, отец мой, когда, бывало, придет домой с половиной бороды, с израненным лицом, на котором засохла кровь, тоже запивал. Пусть кто меня осудит за это! «Родителям подражай!», – измарал я сто тысяч раз аспидную доску, когда учился писать. А я что же делаю, когда запиваю? Разве кто уверит меня, что я в этом случае не подражаю родителю?
Я прихожу к одному весьма юному студенту, занимающему двухаршинную келью.
– Ночевать пустишь, что ль? – спрашиваю его. – Меня носастый немец с квартиры прогнал.
– Располагайся, – говорит, – как тебе свободнее, на этом полу, потому что на кровати со мной нынешнюю ночь спать тебе невозможно. Праздник завтра.
– А! – догадался я и ушел.
К нему накануне каждого праздника ходит одна швея, до бесконечности милое и наивное создание, на которой мой бедный приятель неизменно решил жениться и которую он, вследствие того, что называется, возвышает до себя. Я не буду мешать вам, счастливые дети!
– Так тебя, говоришь, носастый немец с квартиры прогнал? – сказали мне в другом месте. – Этот пассаж имеет в себе ту хорошую сторону, что ты принужден будешь найти себе другую нору: тогда я к тебе привалю на новоселье с компанией, а теперь ночевать у меня невозможно. Завтра праздник и сейчас
«Придет сюда она,
Это милое созданье{126}.
Чернобровая моя!»
Сам знаешь, у ихних мадамов работы ни в праздник, ни под праздник не бывает, а ночевать просишься! Эх ты, голова! Гряди и ожидай меня на новоселье с компанией.
– Поди ты к черту и с компанией!
– Впрочем, стой, подожди на минуту ругаться. Чаю не хочешь ли? Я для своей Дульцинеи{127} припас было крендельков, сухариков разных ерундистых, так ты пожри их. С нее довольно будет любви огневой.
– Пожалуй, давай в карман: я с собой заберу, а чаю мне твоего дожидаться некогда.
– Укладывай с богом – и марш под дождь! На дожде, говорят, больше растется, – сострил он окончательно, подавая мне бумажный пакет с ерундистыми крендельками и сухариками.
В другие комнаты снебилью, к другим приятелям прихожу я, упорно преследуя мою цель – ночевать не под открытым небом. В передней, освещенная тусклым светом вонючего ночника, обыкновенно сидит мегера, родившаяся на сокрушение бездомовного народа в каком-нибудь селе Ярославской губернии. Как возовая лошадь, громко сопит она над двадцатой чашкой кронштадтского чая{128}. Обыкновенно, не умея смотреть на этих, как они называют, хозяек иначе, как со скрежетом зубов, я в это время отступаю от своих принципов и самым заигрывающим манером желаю мадаме приятного аппетиту-с.
– Вот вешать-то некому! – злобно ворчит мадам, – в какую погоду шатаются. Пол-то весь загрязнили вы мне! – возвышает она свой крикливый голос, вечно просящий денег. – Снимайте поскорее пальто. Словно утопленник какой ввалился. Где только носило вас?!
– В гостях был у вашего благоверного. Поклон с нами вам прислал. Поцеловать вас, как можно, наказывал.
И при этом я как будто изловчаюсь влепить ей комиссионный, так сказать, поцелуй, но зверовидное существо находит в себе, против моих ожиданий, настолько женственности, чтобы самым неуклюжим манером гримасничать и увертываться от моих, жаждущих теплой постели, объятий.
– Какого ты черта возишься там? – слышится из-за перегородки голос моего приятеля, к которому пришел я с намерением ночевать. – Говорил бы прямо, что на ночевку пришел, так я бы тебе тоже прямо сказал, что нельзя нынче у меня ночевать, потому что праздник завтра.
«И тут праздник!» – с ужасом восклицаю я про себя.
– Каким же образом у тебя-то праздник? – кричу я ему в стену, – ведь ты жид.
– Ну, это уж не твое дело! – отвечает он мне. – А за то, что ты жидом ругаешься, не пущу же тебя ночевать, хотя одна добрая душа очень меня упрашивает укрыть тебя от темной ночи.
Я видел, что мои дела поправляются, т. е. что ночевище мое почти уже готово, но я ушел и отсюда, потому что за стеной заслышал некоторый умоляющий шепот:
– Пусти его, Евзель, ночевать, пожалуйста, пусти. Ты не сердись на него, что он тебя жидом изругал. Он ведь, этот Сизой, почти всегда пьян. Может, это он спьяна тебя изругал.
У этой девочки, которая навещала Езеля Гараха, такие большие, такие ничего не выражающие глаза! Я всегда как-то не симпатизировал ей, а тут еще шепчет она, чтобы Езель Тарах, студент медицины, снабженный трехаршинными бакенбардами и талейрановской головой{129}, не мстил приятелю своему, Ивану Сизому, за то, что тот его жидом назвал.
– Ну, хорошо! Я прощаю тебе, Иван, что ты меня жидом обругал, – кричал мне с хохотом Езель. – Иди и ночуй. Обещаю тебе не пить твоей крови за обиду мне нанесенную.
– Как это трогательно! – злобно заметил я, сознавая необходимость уходить и отсюда, чтобы не видеть больших круглых глаз феи, вышептывающей мне великодушное прощение.
Но прежде, нежели уйти мне от Езеля, я сцепился с хозяйкой преимущественно в видах, чтобы, разозливши ее, лишить тем самым надлежащего аппетиту, с которым она заливала нутро свое чаем. Я начал с того, что она коломенская жирная дура, а не хозяйка, что ей бы только судомойкой в солдатских казармах быть, а не хозяйничать. Зверообразная баба, к великому моему наслаждению, была поражена в самое сердце.