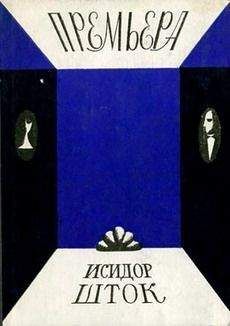Как-то мы с Виктором Гусевым зашли к нему на Тверской бульвар. Он был болен. То ли грипп, то ли ангина. Он с трудом привыкал к нашему климату. Лежал на железной кровати в крошечной комнатке (потом, когда я читал в газетах о Назыме в турецкой тюрьме, перед моими глазами всегда возникала эта железная койка, и знакомые его голубые глаза, и жесткие темно-рыжие волосы, и рука с карандашом на блокноте).
Он работал. Писал. Увидел нас, обрадовался. Начал читать по-турецки. О мировой коммуне-оркестре. Потом о больном Колоссе Родосском, всунутом в американские ботинки номер сорок пять… С нами зашла еще одна девушка. Актриса с ярко накрашенными губами.
– Такой рот, как будто ты кушал кровь, – сказал Назым актрисе.
Когда мы уходили и были уже на лестнице, актриса призналась, что ей очень не хотелось уходить. Хотелось остаться с больным, пожалеть его, вылечить… Уж очень он беззащитный, слабый.
Это Назым-то слаб! Да он, пожалуй, один из самых сильных людей на земле.
А через несколько дней Назым поправился и снова сидел на репетиции «Первого урока сценического марксизма»…
После гибели «Метлы» мы не виделись двадцать четыре года.
Встретились в Москве. Как-то наспех, в Союзе писателей.
Поздоровались за руку.
– Ты меня помнишь?
– Ну как же…
Ему было не до меня. Шло собрание, митинг, он выступал. Затем уехал. Затем приехал и болел. И только через какое-то время я пришел к нему в Переделкино на дачу. Он принял хорошо. Вспомнил «Метлу», Экка…
Я к нему стал изредка заходить. Не пропускал ни одной его премьеры. Он платил мне тем же. Смотрел мои пьесы в Театре Советской Армии…
И вот теперь мы, через тридцать шесть лет после нашего знакомства, здесь, на румынской земле.
Приехали в Констанцу поздно. Промчались через весь город и потом покатили дальше – в Мамаю, в отель бывший «Император»…
Перед нами было Черное море. Недалеко в городе – памятник Овидию. Поэт стоит у моря и смотрит вдаль, на родную страну, изгнавшую его.
С морем у Назыма Хикмета свои особые отношения. Он был внуком адмирала, и тот решил сделать из него флотоводца. Два года – с пятнадцати до семнадцати дет – он учился в военно-морском училище… Потом сбежал. Родился у моря, жил у моря, писал о море… Дважды бежал из родной Турции. Первый раз непосредственно из тюрьмы, второй раз – отсидев тринадцать с половиной лет и отпущенный под надзор полиции. Полиция прозевала его, он снова бежал. Оба раза морем – в Европу. Активный борец за мир и свободу народов, он жил то в Москве, то в Польше, то в Баку, то в Таллине, то в Ленинграде, то в Гаване, то в Марселе, то в Париже, ou избороздил все моря мира. Хикмет писал: «В море вдвоем с молодым товарищем я шел на смерть».
Морю, океанам, воде посвятил он много строк. Он писал о себе:
Скажем, твою колыбель
Омывал океан.
Скажем, ты с каждой рыбой на «ты»,
С горизонтом на «ты»,
Все же всю жизнь напролет
Не устанет тебя удивлять океан.
Несколько лет назад мы выпускали сборник драматургов «Москва театральная», куда включили и «Дамоклов меч». Я попросил Назыма сняться. Он прислал свой портрет в матросской полосатой тельняшке. В редакции удивились. Привыкли фотографировать писателей при галстуках, во всем параде, на фоне книжных полок.
– Если не нравится – совсем не печатайте. Пусть будет так, без портрета.
Напечатали. В тельняшке. Со счастливой улыбкой. Будто в каюте океанского корабля. Он очень любил море. Наверно, когда ложился спать, видел его во сне…
И в Стамбуле
Солнце часто вот так же заходит,
Как на цветных открытках,
Но все же ты не должен рисовать его так.
Оказывается, я люблю море, и как еще!…
Выло в нем много юношеского, мальчишеского, озорного. Любил смеяться, разыгрывать. Иногда, когда сидели и разговаривали, вынимал тетрадочку, карандаш и рисовал. Старая привычка, я помню ее еще по двадцать шестому году, когда он меня нарисовал в виде подсолнечника, а Гусева в виде ромашки. Рисунки у него были смешные, похожие…
Вдруг отзывал в сторону, будто хотел сообщить что-то очень важное и секретное. Шептал:
– Дай сигарету. Тихонько. Чтоб Вера не видела. Закуривал в кулак. Жадно затягивался. Ему было запрещено курить. Но он покуривал. Иногда начинал бунтовать и курил открыто. До первой сердечной спазмы. Потом бросал. И курил по секрету, как школьник.
Любил хорошо одеваться. В Бухаресте мы сшили у какого-то знаменитого портного по пиджаку из грубой домотканой шерсти. Он рыжий, я голубой. Так и щеголяли в них по Бухаресту. Потом, после первого дождя, пиджаки обвисли и потеряли форму.
Он был элегантен, весьма. Помню, как на ужине в Театральном обществе он разговаривал по-французски с актрисами. Теперь Назым уже не говорил актрисам, что они, «наверно, кушали кровь».
У него была плохая зрительная память. Он никак не мог запомнить всю вереницу лиц, проходившую перед ним во время скитаний по миру. Путал. Потом признавался и хохотал. Удивлялся:
– Как, брат, ты их всех запоминаешь?
Был воспитан великолепно, прост, внимателен. Когда нужно – резок и суров. Друзьям верен. Недаром в автобиографии написал: «Иногда обманывал женщин, никогда – друзей».
Деньгам счета не знал, считать их не любил. Давал охотно и помногу. Долги не взыскивал, делал вид, что забывал о них. Был щедр, денег не копил и о завтрашнем дне не думал…
Выл любопытен. Любознателен. Старался понять, что происходит в стране, где он сейчас жил. Все, что происходило, когда его не было, когда он жил в тюрьмах, в оковах, без дневного света, без газет и без карандаша и бумаги, запертый в глухом каземате.
Мы ехали по Эфорин, приморскому району, где расположились прекрасные санатории, новые дома, пляжи, рестораны… Переводчица объясняла, когда какое здание построено, какому учреждению принадлежит, кто автор проектов, каковы планы расширения и улучшения этого райского места. Сделала паузу, чтобы передохнуть. И вдруг Назым, который слушал и не слушал объяснения переводчицы, без всякого сюжетного перехода стал рассказывать о турецкой тюрьме.
Шоссе, по которому мы медленно двигались в длинной черной машине, то и дело пересекали мужчины и женщины с полотенцами, перекинутыми через плечо, в широких от солнца шляпах, в защитных очках. Обнаженные их тела покрыл черноморский загар, хотя было и не особенно жарко, ночью шел дождь…
Назым рассказывал, как, требуя пересмотра приговора и освобождения, он объявил голодовку и семнадцать дней ничего не ел. Какая была паника в тюрьме. Как за окнами тюрьмы шли демонстрации. Он тогда не знал, что во всем мире поднялось движение в защиту Назыма Хикмета. Были созданы комитеты освобождения. Во многих газетах были его портреты. У зданий турецких посольств в Азии, в Европе, в Америке демонстрировали люди, требуя свободы поэту.