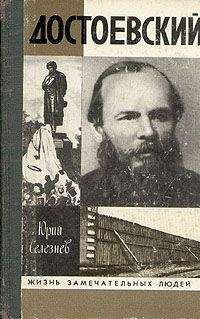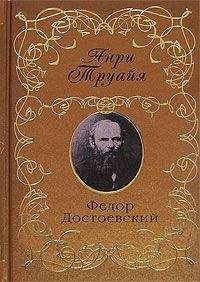И сам Белинский высоко ценил талант Валериана, но не однажды высказывал он и серьезные опасения относительно некоторых суждений Майкова.
— «Свобода не имеет отечества!» — Вот ведь к чему эти абстрактные человеки, беспачпортные бродяги в человечестве хотят приучить наше сознание, — воспламенялся Белинский. — Ежели ты патриот, стало быть, ты не гуманен, не цивилизован, не просвещен — не дорос. Одним словом, варвар! Вот и ваш, — он почему-то ударил на это слово, — ваш Майков, начитался таких же европейских человечков, и показались они ему гигантами мысли, испугался прослыть варваром, патриотом — туда же, во всечеловечность, полез. Да вы почитайте, почитайте, что он пишет, ваш Майков: художник, видите ли, погибнет, если вместо выражения общечеловеческих идеалов окажется окованным цепями национальной односторонности; договорился до того, что объявил национальность тормозом на пути к общечеловеческому идеалу... Абстракции, трескучие фразы, а в результате — теория о неспособности «инертной массы» к прогрессу и творчеству. А знаете ли вы, наивный вы человек, что скрывается за всем этим? Не знаете, а я вам скажу: неверие в свой народ... «Инертная масса» — да посмотрите же вы, абстрактные гуманисты, повнимательнее, подумайте, поразмыслите, — почему она инертная, всегда ли она инертная и что можно и нужно сделать, чтобы она не была инертной! Но какое нам дело до массы? А вы поглядите, господа гуманисты, на нее другими глазами, глазами русского человека, патриота, может быть, и заметите тогда, что это не просто масса, а народ, русский народ, не такой уж инертный, как вам представляется. Только где ж вам это увидеть, ежели для вас и понятие-то само — русский народ — не существует, а есть только масса, некая абстракция, с которой, конечно же, можно не считаться вовсе. Крепостное право, батенька, — не абстракция, а привилегия одного только русского народа. Ну а коли масса, так и не все ли равно — пусть себе хоть какую-никакую привилегию, а все-таки имеет. Вот ваш и гуманизм без патриотизма. Майков человек безусловно талантливый, но талант его может погибнуть на почве гуманистического космополитизма, который он исповедует и проповедует. Впрочем, надеюсь, это по молодости, хочется, знаете ли, сразу всечеловеком стать, а быть просто российским патриотом, жизнь положить за освобождение своего народа от гнусного рабства — фу, как это недостойно столь образованного, столь всеевропейски мыслящего интеллигента...
А знаете ли вы, что сегодня отрицать национальность — это и значит быть ретроградом и повторять европейские зады? Да, мы долго восхищались всем европейским без разбору только потому, что оно европейское, а не наше, русское, доморощенное. Настало время для России развиваться самобытно, из самой себя. В нас сильна национальная жизнь, и мы призваны сказать миру свое слово, свою мысль. Народ без национальности — что человек без личности, запомните это, батенька, и хорошенько запомните, если хотите стать всемирным писателем, потому что все великие люди — это прежде всего дети своей страны. Великий человек — всегда национален, как его народ, ибо он потому и велик, что представляет собой свой народ. А народ относится к своим великим людям, как почва к растениям, которые производит она. И вопреки абстрактным человечкам, космополитическим гуманистам, для великого поэта нет большей чести, как быть в высшей степени национальным, потому что иначе он и не может быть великим...
Перечитывая свежую статью Белинского — «Русская литература в 1846 году» — не лихорадочно, как в тот, первый раз, не выискивая в ней лишь строки, посвященные ему, Достоевский все более проникался учением страстного проповедника, бойца, великого патриота своего угнетенного народа — Виссариона Белинского. В этой статье Достоевский узнавал многое из того, в чем не раз убеждал его учитель во время личных бесед. Увидел он и страстную отповедь «космополитическому гуманисту» Майкову, как называл его Виссарион Григорьевич. И как бы ни язвили его самолюбие некоторые из суждений Белинского о его романах, общее направление мысли Белинского представлялось ему справедливым.
Теперь Достоевский был убежден, что его «Двойник» и не мог вызвать восторга критика как раз потому, что в нем преобладает именно чувство, которое Белинский называет абстрактным гуманизмом, тут мало национальности, мало народности; как писатель Достоевский раньше как-то совсем и не задумывался об этом. Так мечталось поспорить теперь с честным, талантливым Валерианом — он смог бы наконец признать правоту Белинского — и вот... Поговорили... Поспорили...
Валериан, Валериан... Где-то теперь? Неужто только там, в сыром чреве земли, и нет бессмертия твоей душе к ничьей нет? Неужто и в этом прав Белинский? Но тогда зачем все это — муки, и страдания, и борьба, и споры, и бессонные ночи — не с любимой женщиной, а с толстой пачкой белой бумаги, заметно худеющей к утру? Зачем все это — и слава посмертная, и памятники, и высокие слова на могилах, если тебя уже не будет? Совсем не будет. Только там, в земле. Да и то, разве ты там, а не разбитый глиняный кувшин, оставшийся от тебя? А ты, именно ты сам, неужто только в словах, в книгах, написанных тобой, да в памяти людской о тебе? И все? И больше ничего...
Скорее бы приезжал Белинский, скорее бы прочитал «Хозяйку» — уж это-то не абстрактный гуманизм, уж тут-то народности через край — вот и ответ на его проповедь. А «Двойника» он еще перепишет, он еще докажет. Все еще впереди!
В Парголове Достоевский однажды вновь встретился с Петрашевским и на этот раз решил посетить одну из его «пятниц». Оказалось, из знакомых его у Петрашевского бывал не только Плещеев, но и Аполлон Майков заходил. Собирались здесь в основном люди молодые, симпатичные, но разношерстные. Были и начинающие литераторы. Поэт и автор рассказов Александр Пальм — из обрусевших немцев; мать его — бывшая крепостная отца, захудалого провинциального дворянина, а Саша — уже офицер лейб-гвардии егерского полка, большой поклонник Лермонтова... Поэт Сергей Дуров, недавно бросил службу в министерской канцелярии; надеясь прожить литературным трудом, скоро оказался без гроша. Молодой совсем титулярный советник, служащий канцелярии военного министерства Михаил Салтыков, недавний выпускник Царскосельского лицея, стихотворец, мрачный не по годам молодой человек. Достоевскому уже приходилось слышать это имя и от Валериана Майкова и от Белинского. Авдотье Яковлевне Панаевой он запомнился еще лицеистом: «Юный Салтыков и тогда не отличался веселым выражением лица. Его большие серые глаза сурово смотрели на всех, и он всегда молчал... Он всегда садился не в той комнате, где сидели все гости, а помещался в другой, против дверей и оттуда внимательно слушал разговоры».