Я пел — в очередь с Изой Кремер и Надеждой Плевицкой — ежевечерне. Там же, при Доме артистов, мне отвели комнату, так как гостиницы были переполнены.
Однажды вечером, разгримировавшись после концерта, я лёг спать. Часа в три ночи меня разбудил стук. Я встал, зажёг свет и открыл дверь. На пороге стояли два затянутых элегантных адъютанта с аксельбантами через плечо. Они приложили руки к козырьку.
— Простите за беспокойство, его превосходительство генерал Слащов просит вас пожаловать к нему в вагон откушать бокал вина.
— Господа, — взмолился я, — три часа ночи! Я устал! Я хочу отдохнуть!
Возражения были напрасны. Адъютанты оказались любезны, но непреклонны.
— Его превосходительство изъявил желание видеть вас, — настойчиво повторяли они.
Сопротивление было бесполезно. Я встал, оделся и вышел. У ворот нас ждала штабная машина.
Через десять минут мы были на вокзале.
В огромном пульмановском вагоне, ярко освещённом, за столом сидело десять — двенадцать человек.
Грязные тарелки, бутылки и цветы…
Все уже было скомкано, смято, залито вином и разбросано по столу. Из‑за стола быстро и шумно поднялась длинная, статная фигура Слащова. Огромная рука протянулась ко мне.
—-Спасибо, что приехали. Я ваш большой поклонник. Вы поёте о многом таком, что мучает нас всех. Кокаину хотите?
— Нет, благодарю вас.
— Лида, налей Вертинскому! Ты же в него влюблена!
Справа от него встал молодой офицер в черкеске.
— Познакомьтесь, — хрипло бросил Слащов.
— Юнкер Ничволодов.
Это и была знаменитая Лида, его любовница, делившая с ним походную жизнь, участница всех сражений, дважды спасшая ему жизнь. Худая, стройная, с серыми сумасшедшими глазами, коротко остриженная, нервно курившая папиросу за папиросой.
Я поздоровался. Только теперь, оглядевшись вокруг, я увидел, что посредине стола стояла большая круглая табакерка с кокаином и что в руках у сидящих были маленькие гусиные пёрышки-зубочистки. Время от времени гости набирали в них белый порошок и нюхали, загоняя его то в одну, то в другую ноздрю. Привёзшие меня адъютанты почтительно стояли в дверях.
Я внимательно взглянул на Слащова. Меня поразило его лицо.
Длинная, белая, смертельно-белая маска с ярко-вишнёвым припухшим ртом, серо-зеленые мутные глаза, зеленоваточерные гнилые зубы.
Он был напудрен. Пот стекал по его лбу мутными молочными струйками.
Я выпил вина.
— Спойте мне, милый, эту… — Он задумался. — О мальчиках… «Я не знаю зачем…»
Его лицо стало на миг живым и грустным.
— Вы угадали, Вертинский. Действительно, кому это было нужно? Правда, Лида?
На меня глянули серые глаза.
— Мы все помешаны на этой песне, — тихо сказала она.
Я попытался отговориться.
— У меня нет пианиста, — робко возражал я.
— Глупости. Николай, возьми гитару. Ты же знаешь наизусть его песни. И притуши свет. Но сначала понюхаем.
Он взял большую щепотку кокаина.
Я запел.
И никто не додумался
Просто стать на колени
И сказать этим мальчикам,
Что в бездарной стране
Даже светлые подвиги —
Это только ступени
В бесконечные пропасти
К недоступной Весне!
Высокие свечи в бутылках озарили лицо Слащова — страшную гипсовую маску с мутными глазами. Он кусал губы и чуть-чуть раскачивался.
Я кончил.
— Вам не страшно? — неожиданно спросил он.
— Чего?
— Да вот… что все эти молодые жизни… псу под хвост! Для какой‑то сволочи, которая на чемоданах сидит!
Я молчал.
Он устало повёл плечами, потом налил стакан коньяку.
— Выпьем, милый Вертинский, за родину! Хотите? Спасибо за песню!
Я выпил. Он встал. Встали и гости.
— Господа! — сказал он, глядя куда‑то в окно. — Мы все знаем и чувствуем это, только не умеем сказать. А вот он умеет! — Он положил руку на моё плечо. — А ведь с вашей песней, милый, мои мальчишки шли умирать! И ещё неизвестно, нужно ли это было… Он прав.
Гости молчали.
— Вы устали? — тихо спросил Слащов.
— Да… немного.
Он сделал знак адъютантам.
— Проводите Александра Николаевича!
Адъютанты подали мне пальто.
— Не сердитесь, — улыбаясь, сказал он. — У меня так редко бывают минуты отдыха… Вы отсюда куда едете?
— В Севастополь.
— Ну, увидимся. Прощайте.
Слащов подал мне руку.
Я вышел.
Светало. На путях надрывно и жалостно, точно оплакивая кого‑то, пронзительно свистел паровоз…
Белые армии откатывались назад. Уже отдали Ростов, Новочеркасск, Таганрог. Шикарные штабные офицеры постепенно исчезли с горизонта. Оставались простые, серые фронтовые офицеры, плохо одетые, усталые и растрёпанные. Вместе с армией «отступал» и я со своими концертами. Последнее, что помню, была Ялта. Пустая, продуваемая сквозным осенним ветром, брошенная временно населявшими её спекулянтами. Концерты в Ялте я уже не давал. Некому было их слушать.
Несколько дней городом владел какой‑то Орлов, не подчинявшийся приказам белого командования. Потом его убрали. Все затихло. Ждали прихода красных. Я уехал в Севастополь.
Под неудержимым натиском Красной Армии белые докатились до Перекопа. Крым был последним клочком русской земли, ещё судорожно удерживаемым горстью усталых, измученных, упрямых людей, уже не веривших ни в своих вождей, ни в свою авантюру. Белая армия фактически перестала существовать. Были только разрозненные и кое‑как собранные остатки. Генералы перессорились, не поделив воображаемой власти, часть из них уже удрала за границу, кто‑то застрелился, кто‑то перешёл к красным, кто‑то исчез в неизвестном направлении.
Но армия разлагалась и таяла на глазах у всех. Дезертиры с фронта, оборванные, грязные и исхудавшие, наивно переодетые в случайное штатское платье, бродили по Севастополю, заполняя улицы, рестораны, где уже нечем было кормить, пустые магазины, грязные кафе и кондитерские. Они ждали чего угодно, но только не такого отчаянного поражения. Они не могли осознать случившегося и только жалобно скулили, когда кто‑нибудь пытался с ними заговорить.
Спали всюду: в вестибюлях гостиниц, на бульварных скамейках и прямо на тротуарах, благо ночи в Крыму были тёплые. А те, кто ещё носил форму, отпускные, командированные в тыл, по целым дням толклись в комендатуре, где с утра до ночи бегали с бумагами под мышкой военные чиновники, охрипшие и ошалевшие, которые сами ничего не знали и никому и ничему помочь уже не могли. Они рвали взятки с живого и мёртвого и этим ограничивались.


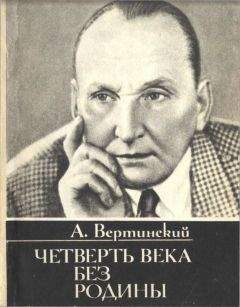
![Анатолий Добрынин - Сугубо доверительно [Посол в Вашингтоне при шести президентах США (1962-1986 гг.)]](https://cdn.my-library.info/books/32820/32820.jpg)

