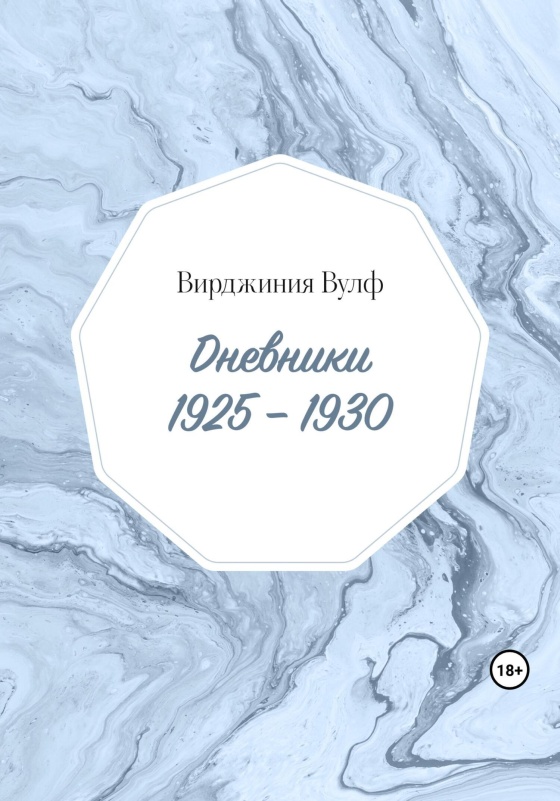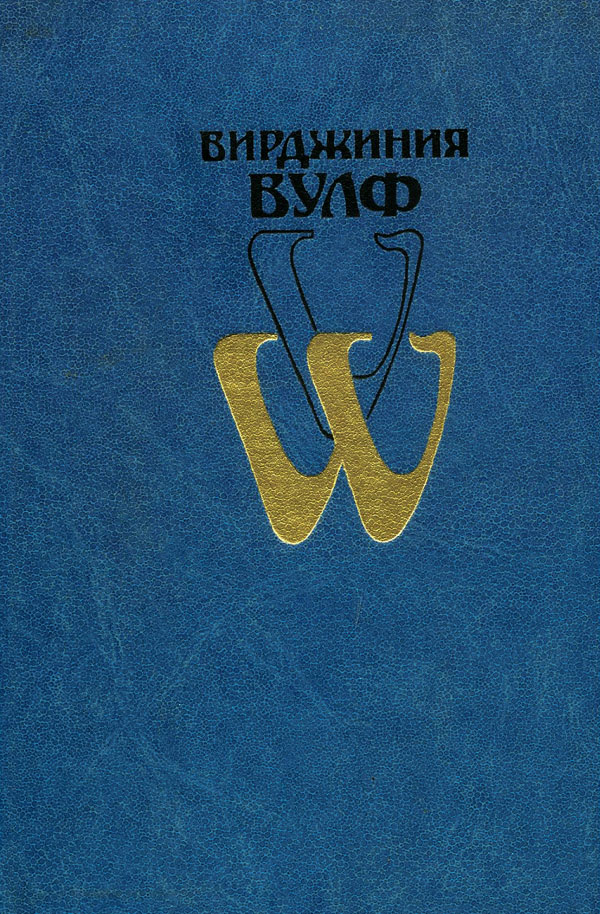слишком мал, – сказала я.
– А у лошади нет ушей, – добавил он.
– Уоттс потерял свое положение, – сказала я, чувствуя себя рядом с Гербертом удивительно молодой и колоритной.
– Да, – добавил он, – рискну согласиться, но я чувствую, что автор этой картины был великим человеком – не художником, а именно человеком.
После этого он переключился на свою обычную трескотню об искусстве, похвалив некоего мистера Маннингса [536] за прекрасные изображения лошадей и пейзажи в стиле XVIII века позади них. «Вот что мне нравится – стиль XVIII века, старик Кром [537] и Котман [538]. К слову, у Маннингса тот самый стиль, ради которого стоит пойти в Королевскую Академию; он довольно молодой парень, прошедший войну». Современное же искусство Герберта не интересует; мы прогулялись по Виктория-стрит до Палаты общин, и он сказал, что читает письма Саути [539] – «первоклассное чтиво. Там есть чудесное описание зимы. А кто сейчас наши многообещающие литераторы?» Я назвала Джойса. Он о нем даже не слышал. На этом мы и расстались; Герберт, очень любезный, седой и видный в своем бушлате, собирался заняться алкогольным законопроектом [540] и, по его словам, очень завидовал нам, пишущим книги в Ричмонде. А потом мы столкнулись с грузным и крепким Уиллом Воганом [541] в Лондонской библиотеке – во время разговора он постоянно смеялся как старый морской капитан. По правде говоря, нам ему нечего было сказать.
29 апреля, пятница.
Много чего нужно рассказать, много набросать портретов, передать разговоров и зафиксировать размышлений, но у меня совершенно нет на это времени (эти слова как раз напоминают мне, что я собиралась читать Марвелла [542]). Но каждый день в течение недели я посещала Эолиан-холл [543], занимала место в заднем ряду, ставила сумку на пол и слушала квартеты Бетховена [544]. Имею ли я право говорить «слушала»? Ну, если человек получает огромное, воистину божественное удовольствие, знает мелодии и лишь изредка отвлекается на мысли о других вещах, конечно, он может утверждать, что «слушал». Мы только что вернулись с 5-го концерта; леди Кромер пожала мне руку на улице; мы пили чай с Литтоном, Кэррингтон и Ральфом.
Хочу рассказать о Литтоне. В последние дни мы виделись чаще, чем, вероятно, за целый год. Мы обсуждали наши книги. Этот конкретный разговор состоялся в «Verreys [545]», где на фоне позолоченных перьев, зеркал и голубых стен мы с Литтоном пили чай с бриошами в углу и просидели, кажется, больше часа.
– Прошлой ночью я проснулась и поняла, куда тебя поместить, – сказала я. – К Сен-Симону [546] и Лабрюйеру [547].
– О боже, – простонал он.
– И к Маколею, – добавила я.
– Ах да, Маколей, – сказал он. – Все же я немного лучше него.
– Не по масштабам, – настаивала я. – Более цивилизованный – это да. Но ведь ты пишешь только короткие книги.
– Следующая будет о Георге IV [548], – сказал он.
– Хорошо, но это не твое, – настаивала я.
– А что твое?
– Я – “самая выдающаяся из ныне живущих романисток”, – ответила я, – так пишут в “British Weekly [549]”.
– Ты на меня давишь, – сказал он.
Еще он сказал, что легко узнает мой стиль, как бы я его ни меняла.
– Это, кстати, результат упорных стараний, – настаивала я.
Потом мы обсуждали историков.
– Гиббон [550] – это своего рода Генри Джеймс, – отважно предположила я.
– О боже, нет – ни в коем случае, – возразил он.
– У него есть своя точка зрения, и он ее придерживается, – сказала я. – Как и ты. А я колеблюсь. А что не так с Гиббоном?
– О, с ним все в порядке, – сказал Литтон. – Форстер говорит, что он имп [имперец?]. Но взгляды его не так уж и широки. Вероятно, он верил в “добродетель”.
– Красивое слово, – откликнулась я.
– Почитай, как орды варваров разоряли Город [551]. Написано великолепно. Правда, у него странное отношение к ранним христианам: он ничего в них не понимал. Но все равно почитай. Я тоже собираюсь перечитывать в октябре. А еще я еду во Флоренцию [552], и по вечерам мне будет очень одиноко.
– Полагаю, французы повлияли на тебя сильнее, чем англичане.
– Да, у меня есть их точность. Они меня сформировали.
– Читая на днях “Воспоминания”, я сравнивала тебя с Карлайлом [553]. Что ж, на твоем фоне это просто болтовня старого беззубого могильщика; есть лишь отдельные фразы, которые заслуживают внимания.
– Да, есть, – сказал Литтон. – Вот только я читал его на днях Нортону и Джеймсу, и они закричали, что не намерены это слушать. И все же я немного беспокоюсь на счет “масштабов”. В этом для меня опасность, не так ли?
– Да, – ответила я, – ты делаешь тонкие срезы. Но тема-то великолепная – Георг IV. И как, должно быть, приятно работать над ней.
– Как твой роман [«Комната Джейкоба»]?
– О, я запустила в него руки, словно в бочку с отрубями [554]. Результат отличный! И он будет совершенно другим.
– Да, во мне тоже будто двадцать разных людей.
– Но со стороны все выглядит целостным.
– Самое ужасное с Георгом IV то, что ни у кого нет нужных мне фактов. Историю придется писать заново. Кругом сплошная мораль…
– И сражения, – добавила я.
Потом мы прогулялись, так как мне нужно было купить кофе.
3 мая, вторник.
Гамильтон Файф [555] пишет в «Daily Mail [556]», что рассказ Леонарда «Жемчуг и свинья» войдет в число величайших историй мира. Ревную ли я? Только одну секунду. Но самое странное – идиотское – то, что я немедленно считаю себя неудачницей и воображаю, будто мне не хватает качеств, которые есть у Л. Я чувствую себя бледным наброском – непонятным, слабым, нечеловеческим, бескровным и мелочным существом, не вызывающим интереса у людей. «Лимб» – вот мое место, как пишут [557] в «Daily News [558]». К тому же Ромер Уилсон [559] выпустила роман, которому Сквайр наверняка присудит* Готорнденскую премию и тем самым лишит Кэтрин награды – есть повод для радости. Я пишу это нарочно, чтобы выбить из себя стыд. Работа над «Джейкобом» остановлена, отчасти из-за депрессии. Но я должна собраться и закончить. Не могу читать его в нынешнем виде.
В воскресенье у нас обедали Оливер и Саксон, в субботу я пила чай с Нессой, а вчера мы ездили в Лондон, в редакцию «New Statesman»; я купила Элиота в прозе [560],