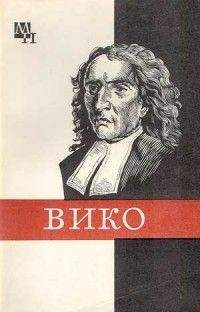«Идеализм, психологизм, утилитаризм, детерминизм, дух серьезности — вот на какие темы должен был рассуждать буржуазный писатель перед своей публикой»[58]. Получается, что детерминизм как принцип подхода к объяснению мира и человека и психологизм — это замечательное завоевание романистики прошлого столетия — накрепко связаны с буржуазной идеологией и должны разделить судьбу этой последней, так что литература нового общества может обойтись, скажем, без психологизма, а философия — без детерминизма. Но с другой стороны, идеализм и утилитаризм — действительно характерные черты буржуазной идеологии как сегодня, так и сто лет тому назад.
Социологическому анализу Сартра систематически не хватает диалектического историзма, органически связывающего исторически изменчивое и преходящее с устойчивым и субстанциальным, обладающим преемственностью и относительной самостоятельностью. Так и в данном случае. Поскольку литература в целом есть человековедение, то историко-литературный процесс можно рассматривать как прогресс в изображении и познании человека художественными средствами, а также в изображении мироощущения человека разных эпох и культур. Это и лежит в основе преемственности и внутренней связи исторической эволюции художественной литературы.
С позиций диалектико-материалистического историзма можно определить историческую значимость, неизбежность и даже известную художественно-познавательную ценность некоторых произведений декадентской литературы, создатели которых обладали недюжинным талантом, острым ощущением кризиса эпохи, кризиса самих оснований буржуазной цивилизации и культуры.
Это та ситуация, о которой писали — наряду со многими, конечно, — Блок, освободившийся от влияния декадентства, и Есенин, который вообще этому влиянию не был подвержен: «Рожденные в года глухие пути не помнят своего» (Блок), «…в развороченном бурей быте с того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий» (Есенин). Здесь превосходно запечатлена ситуация, которая породила декадентскую литературу, но запечатлена средствами классической поэзии. В декадентской литературе ситуация остается, так сказать, зашифрованной, поскольку абсурд бытия в ней выражен в «абсурдной» (с точки зрения классических канонов) форме. Таковы, например, «Улисс» и «Поминки по Финнегану» Джойса. Но разрушение классической традиционной формы литературного произведения у Джойса (в отличие от бесчисленного множества литературных спекулянтов нашего времени) не самоцель, а попытка изнутри выразить реалии абсурдного мира. Поэтому абсурдность формы указывает на абсурдность содержания, т. е. мироощущения человека, который «посетил сей мир в его минуты роковые» и нисколько не понял смысла развертывающихся перед ним трагических событий. Не только не понял, но и слился с этими событиями, стал их «звуковым лицом», моментальным фотографическим снимком, а не уяснением.
Для социологического анализа декадентского умонастроения, поддерживающего и питающего и самое философию экзистенциализма, важное значение имеют такие явления литературного процесса XX века, как «литература потерянного поколения» и движение «рассерженных молодых людей». Сорок с лишним лет тому назад, после появления, почти одновременного, романов Э. Хемингуэя «Прощай, оружие!», Э. Ремарка «На Западном фронте без перемен», Р. Олдингтона «Смерть героя», заговорили о литературе «потерянного поколения». И в самом деле, несмотря на различие творческой манеры писателей, бросается в глаза внутренняя общность мироощущения героев в этих произведениях. Дело не только в общности темы — человек на войне, но в поразительном совпадении авторского взгляда, писательской позиции и, следовательно, — впечатления, остающегося у читателя после прочтения этих книг.
Источник единого настроения, выраженного и внушаемого этими тремя романами, в том, что в них запечатлен исторический опыт поколения, для которого мировая война стала первым впечатлением самостоятельной жизни и определяющим фактором духовного формирования. Всякая настоящая литература, как говорил еще Белинский, выражает «общественное самосознание», и поэтому она, помимо своей эстетической ценности, имеет еще значение исторического и социологического документа.
Герои Хемингуэя, Ремарка, Олдингтона принесли с собой мироощущение поколения, попавшего в гигантскую мясорубку бессмысленной войны. Недаром «тененте»[59] Генри у Хемингуэя сравнивает эту войну с чикагскими бойнями: «…только мясо здесь зарывали в землю»[60]. Окопы стали их университетами, истребление себе подобных — главным занятием, постоянное ожидание смерти, усилием воли выгоняемое за порог сознания, — лейтмотивом существования. Ненормальные, нечеловеческие условия бытия, которые стали повседневной реальностью, и влияние этой ужасающей реальности на душу вчерашнего юноши — вот что составляет центральную тему литературы «потерянного поколения». Читая романы, можно проследить основные стадии и конечный результат этого процесса «крещения» целого поколения в огненной купели фронтовой жизни.
«Испепеляющие годы»… Это знаменитое определение Блока, пожалуй, лучше всего может резюмировать жизненный опыт юных солдат мировой войны, воскресших на страницах лучших произведений представителей критического реализма. И прежде всего, война выжгла предрассудки обывательского сознания, усердно насаждавшиеся школой и семьей (эта тема больше развита у Олдингтона и Ремарка), обнажила лицемерие буржуазной морали и призрачность идеологических устоев, на которых якобы основывалась «христианская цивилизация». «Первый же артиллерийский обстрел раскрыл перед нами наше заблуждение, и под этим огнем рухнуло то мировоззрение, которое они (учителя и вообще „взрослые“. — М. К) нам прививали. …Мы словно вдруг прозрели. И мы увидели, что от их мира ничего не осталось. Мы неожиданно очутились в ужасающем одиночестве (вот как можно истолковать абстрактные рассуждения философов об „экзистенциальном одиночестве“, которое не вечный спутник человека, а порождение конкретной ситуации. — М. K.), и выход из этого одиночества нам предстояло найти самим»[61].
Перестал действовать сложившийся на протяжении полутора веков идеологический стереотип, существеннейшим элементом которого было убеждение в том, что все «идет к лучшему» в этом мире, что социальная эволюция постепенно реализует христианские принципы любви, добра и справедливости, что буржуазный общественный порядок разумен и хорош уже сейчас и станет еще лучше в будущем, а это счастливое будущее гарантировано автоматически действующими «законами социального прогресса», как торжественно провозглашали буржуазные мыслители, считавшие себя свободными от предрассудков религии. Относительно мирный период развития капитализма во второй половине прошлого столетия, казалось, подтверждал эту идиллическую картину.