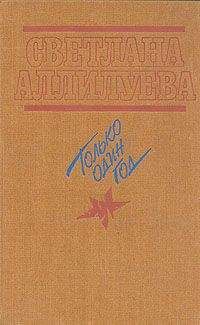Школьнице 12-ти – 13-ти лет невозможно было осмыслить все происходившее. Немыслимо было согласиться с тем, что «дядя Алеша», «тетя Маруся» и «дядя Стах» являются теми самыми «врагами народа», о которых твердила, даже школьникам, официальная пропаганда тех дней. Оставалось думать, что они попали в какую-то общую трагическую путаницу, в которой не может разобраться «даже сам отец». Должно было пройти много лет, чтобы в моем сознании все творившееся не в одной нашей семье, а по всей стране, соединилось с именем моего отца, чтобы я смогла понять, что он сам это творил… А в те годы я не могла даже вообразить, что он способен обрекать на безвинную смерть тех людей, чья честность и порядочность были ему хорошо известны. Лишь позже, в годы юности, несколько открытий убедило меня в этом.
Мне было 16 лет, когда я узнала, что мамина смерть была самоубийством. Это было жестоким открытием для меня. Шла война, я была в Куйбышеве в ту зиму вместе с маминой сестрой и бабушкой. Начав сейчас же расспрашивать их я поняла, что мама была очень несчастлива, что у нее с отцом были разные взгляды на все – от политики до воспитания детей. Я всегда любила маму, хотя она не баловала нас. И теперь я почувствовала, что отец, очевидно, был глубоко неправ, и что это он повинен в ее смерти. Его незыблемый авторитет резко покачнулся…
Я была воспитана в беспрекословном послушании и уважении к нему. Дома, в школе, везде я слышала его имя только с эпитетами «великий», «мудрый». Я знала, что он любил меня больше моих братьев, был доволен, что я хорошо училась. Я видела его мало, он жил отдельно на своей даче, но все же после маминой смерти, вплоть до начала войны, он старался уделять мне возможно больше внимания. Я уважала его и любила, пока не выросла.
Но пришла пора «юности мятежной», когда все авторитеты подвергаются критике, и прежде всего – авторитет родителей. И я вдруг почувствовала некую абсолютную правду в облике мамы, в том, что я помнила и что говорили о ней другие, а отец этого авторитета неожиданно лишился. И дальше все только сильнее и сильнее развивалось именно в этом направлении: мама все больше вырастала в моих глазах, чем больше я узнавала о ней, а отец только терял свой ореол.
Не прошло и года, как произошел новый шок. Я была школьницей 17-ти лет, меня полюбил человек на двадцать лет старше меня, а я влюбилась в него. Этот невинный роман, состоявший из прогулок по улицам Москвы, хождения в театры и кино, из нежной привязанности двух разных, но понимавших друг друга людей, вызвал ужас окружавших меня «оперуполномоченных» и гнев отца.
Взрослый, зрелый человек понимал, что его романтическое увлечение бесперспективно. Для него это было очевидным, и он собирался уже уезжать из Москвы. Но внезапно, он был арестован, обвинен в шпионаже и выслан на 5 лет на север, а позже в лагеря еще на 5 лет. Тут не было никаких сомнений, его арестовали по приказу отца, я это узнала: инициатива исходила от него. Бессмысленный деспотизм был настолько очевиден, что я долго не могла опомниться… Спасти человека было невозможно, – отец не менял решений.
Эти два открытия, сделанные мною в течение одного года, навсегда разъединили меня с отцом, и в последующие годы разрыв только усиливался.
После войны отец почти перестал бывать в кремлевской квартире, оставаясь на своей даче, и мы стали видеться редко. Я больше не была любимой дочерью, а моя дочерняя любовь и уважение рассеивались, как туман. Но я все еще была далека от понимания «политической биографии» отца. Я отдалилась от него сначала по-человечески.
Правда не доходила за ту высокую стену, которой Кремль отгорожен от остальной России. За этой стеной я росла, как растение на безводной скале, тянувшееся к свету, питавшееся откуда-то из воздуха. Этой скалой был мой дом, а я тянулась в сторону, прочь от него. Школа, университет, были отдушинами, откуда шел свет и свежий воздух: там были мои друзья, а не внутри Кремля.
Всю жизнь я была счастлива с друзьями: они решительно отделяли меня от моего имени. Для них я была сверстницей, студенткой, молодой женщиной, всегда – просто человеком. Мои друзья со школьной скамьи и из университета остались со мной на всю жизнь. Я видела их в последний день перед отъездом в Индию. Книги, искусство, знания – вот что нас объединяло. У многих из них были арестованы родители и родственники, но то же самое было и в моей семье, и это не изменяло их отношения ко мне. Наверное, добрая память о моей маме помогала мне.
В 1940 году арестовали отца одной девочки в нашем классе. Она дружила со мной и принесла письмо своей матери к моему отцу, с просьбой спасти мужа. Я отдала письмо отцу вечером за обедом, когда за столом сидело много народа, и невольно все стали обсуждать его. Молотов и другие помнили этого человека, – М. М. Славуцкий был советским консулом в Маньчжурии, потом некоторое время послом СССР в Японии. Произошло невероятное чудо – его освободили и он вернулся через несколько дней домой. Но мне было строжайше запрещено брать письма подобного рода для передачи, и отец долго ругал меня за это. Однако, случай был достаточно красноречивым: судьба человека зависела от одного лишь его слова.
Иногда отец вдруг говорил мне: «Почему ты встречаешься с теми, у кого родители репрессированы?» Очевидно, ему сообщали об этом. Часто результатом его недовольства было то, что этих детей директор школы переводил из моего класса в параллельный. Но проходили годы и мы встречались опять, и отношение ко мне оставалось по-прежнему дружеским.
В университете круг знакомых расширился. Я бывала часто дома у своих подруг, видела их запущенные «коммунальные» квартиры. Редко кто ходил ко мне в Кремль, да и не хотелось звать туда. Для этого надо было заказывать «пропуск» у кремлевских ворот, а мне было стыдно всех этих правил.
В университетские годы нашим «клубом» была московская Консерватория. Там я всегда встречала и своих бывших одноклассников. Музыка была одной из великих отдушин, она напоминала, что прекрасное, вечное все-таки существует. Жизнь интеллигенции в послевоенные годы становилась все мрачнее, малейшие попытки мыслить самостоятельно в социальных науках, литературе, искусстве беспощадно карались. В Консерваторию люди приходили за глотком свежего, чистого воздуха.
В университете я прошла курс Исторических и социальных наук. Мы изучали марксизм всерьез, конспектировали Маркса, Энгельса, Ленина и, конечно, Сталина. От всех этих занятий я только пришла к заключению, что тот теоретический марксизм и коммунизм, который мы изучали, не имел никакого отношения к реальной жизни в СССР. Наш социализм в экономическом смысле был больше похож на государственный капитализм. В социальном же отношении это был какой-то странный гибрид: бюрократически-казарменный режим, где тайная полиция напоминала германское гестапо, а отсталое сельское хозяйство – деревню 19-го века. Ничего подобного не снилось Марксу. Прогресс был забыт. Советская Россия порвала со всем революционным, что было в ее истории и встала на привычные рельсы великодержавного империализма, заменив при этом либеральные свободы начала 20-го века террором Ивана Грозного…