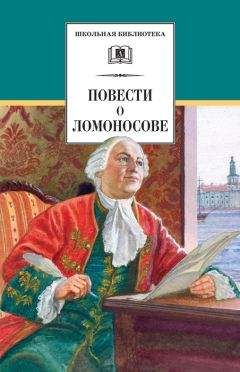Только мелкие чиновники Двенадцати коллегий* в потрепанных кафтанах и пропотевших париках скрипели перьями в канцеляриях огромного здания на Васильевском острове.
Но город жил своей обычной жизнью: торговцы квасом и студеной водой оглашали криками пыльные улицы, купцы зазывали прохожих в лавки, плотники с топорами за поясом и пилами за спиной шлепали в лаптях по торцовой мостовой в поисках работы.
Солнце играло тысячей бликов на ровной глади Невы. Застывшая сверкающая масса стекла улеглась в огромном лоне ее русла. Множество кораблей стояло у причалов и на якоре. Лодки сновали между ними, перевозя людей и товары. Голые по пояс грузчики, обливаясь по́том, бегали по сходням. То и дело раздавались крики и ругань на разных языках.
На набережной, около биржи, был рынок заморских товаров. С утра и до ночи предприимчивые капитаны и матросы продавали попугаев, обезьян, раковины, ароматические масла, цветистые шали, ковры и оружие из индийских и африканских колоний. Тощие, кожа да кости, негры, скрестив ноги, уныло сидели на земле под присмотром торговцев: их продавали под видом «отдачи в услужение» в богатые дома. Какой-то толстый провинциальный помещик, сопровождаемый женой и детьми, бесцеремонно ощупывал маленького черного мальчика и под конец даже открыл ему рот, чтобы посмотреть зубы, как у лошади.
К вечеру по дороге из Петергофа в столицу потянулись щегольские экипажи и дормезы*, крытые кожей; золоченые, с большими стеклянными окнами кареты вельмож, и рыдваны*, и одноколки*, сохранившиеся еще с петровских времен. Все они ехали на стрелку Васильевского острова.
На самом берегу Невы стояло трехэтажное здание Санкт-Петербургской Десьянс Академии[38], украшенное башней, вокруг которой вилась вверх деревянная галерея. Вместо шпиля на башне возвышалась позолоченная армиллярная сфера*.
Башня как бы делила здание на два флигеля; двери одного из них были широко раскрыты в ожидании гостей.
На верхней площадке лестницы гостей встречал правитель академической канцелярии – советник Иоганн Данилович Шумахер, в длинном парике и атласном кафтане. Он считал себя соратником Петра. Великий Петр не только назначил Шумахера хранителем библиотеки и смотрителем кунсткамеры*, но и однажды, восхищенный хорошо приготовленным обедом, решил женить его на дочери своего повара Фельтена. Петр сам приехал на свадьбу, привез своих дочерей, Анну и Елизавету, и всех приближенных. С тех пор положение Шумахера упрочилось; постепенно он превратился в полновластного вершителя академических дел.
Но в первые же месяцы царствования Елизаветы Петровны заведующий академической мастерской, бывший токарь Петра, Андрей Константинович Нартов вместе с канцеляристом Грековым, переводчиком Горлитским и студентом Шишкаревым подали на Шумахера донос о «похищении многой казны и о явном Шумахеровом на Россию скрежетании… За восемнадцать лет ни единого русского профессора Академии не произведено. Тщится, чтобы и впредь не было».
И по повелению Елизаветы Петровны взят был Иоганн Шумахер под стражу, а Нартову поручили временно управлять академией.
Пришлось Иоганну Даниловичу Шумахеру почти два года просидеть под арестом, давая длинные объяснения по многим вопросам председателю следственной комиссии, грозному адмиралу Головину. Но помогла «одна знатная иностранная персона при дворе». Подействовало и письмо одиннадцати иностранных академиков и адъюнктов, грозивших уходом, «если не учинят надлежащую сатисфакцию*», и тем, что «после их отъезда никто из иностранных государств впредь на убылые места приехать не захочет».
Поводом же к письму послужило то, что адъюнкт Михаил Ломоносов, явившись в конференц-зал, «имея на голове шляпу», Иоганну Мессеру «показал кукиш», а от адъюнкта Трескотта потребовал, чтобы он с ним разговаривал по-латыни. А когда тот пробормотал, что не умеет, оный Ломоносов ему ответствовал: «Кто тебя сделал? Шумахер. Ты никуда не годишься и недостойно произведен». После сего адъюнкт Ломоносов ушел, обозвав Шумахера вором и пообещав профессору Винсгейму «по-править зубы».
Правда, в академии и раньше бывал «шум», а однажды профессор Юнкер даже побил палкой физиолога Вейтбрехта за то, что тот упрекнул его в плохом знании латинского языка. Но все это были ссоры между немцами, кончавшиеся дружеской кружкой пива за круглым столом. Терпеть подобное от русского, да еще сына простого мужика, они не желали.
И посему последовало решение комиссии: Шумахера вернуть к прежней должности, «поелику правление Нартова может причинить Академии наук конечное бесславие, ибо он никакой ученый человек или знающий иностранные языки, но и по-русски лишь с нуждой может свое имя подписать». Шумахера же за то, что он «претерпел немалый арест и досады», представить в статские советники.
Так Шумахер по-прежнему стал управлять академической канцелярией. Однако он хорошо понимал, что дух времени в это беспокойное для иностранцев царствование был уже не тот, что раньше. Русские теперь и в науках стали сильны. Недаром великий Эйлер* писал, что «все труды адъюнкта Ломоносова по части физики и химии так превосходны и он с такою основательностью излагает любопытнейшие и совершенно неизвестные и необъяснимые для величайших гениев предметы, что я вполне убежден в истине его объяснений».
Пришлось Михаила Ломоносова избрать в академики, Степана Крашенинникова* – в адъюнкты, а Василия Тредиаковского сам Сенат назначил академиком в рассуждении того, что «ежели профессора-немцы ему путь заграждают, то их должность не в том состоит, чтобы не допускать до академической степени российского человека».
И сегодняшний день сулил мало хорошего. Было получено повеление через президента Академии наук графа Кирилла Разумовского начать публичные лекции и первую лекцию поручить Ломоносову.
«Сего от начала Академии не было, чтобы лекции читались на русском языке и для многих персон. Видно, Ломоносов в большую силу входить начал», – мрачно размышлял Шумахер, ласково кивая входящим гостям и приглашая их проследовать в палаты кунсткамеры.
В первом зале, откинувшись в кресле, сидел Великий Петр. Его лицо, сделанное Растрелли* из воска и снятое с алебастровой маски, было так тонко раскрашено, парик, одежда, все детали его облика, знакомые каждому жителю Санкт-Петербурга, так жизненно правдивы, гневный взгляд настолько грозен, что старые вельможи, срывая шляпы и бледнея, старались на цыпочках перебежать в другую комнату. К тому же возле его кресла стояла всем известная дубинка с набалдашником из слоновой кости. И не одна важная персона, поглядывая на нее, передергивала плечами, вспоминая о былых неприятностях.