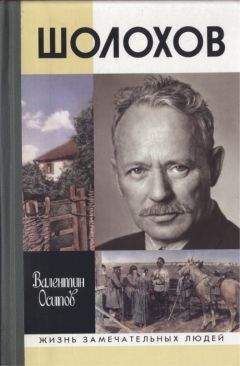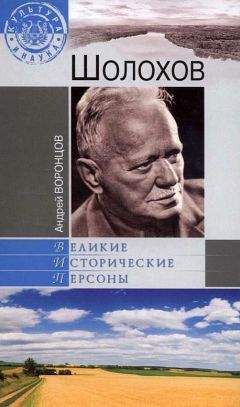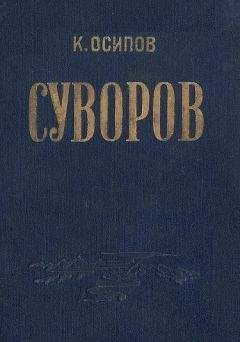В одном городке Шолохов был приглашен в Фестзал — попросили рассказать о себе и не только, он давай импровизировать — получилась лекция «Об организации пролетарского книжного дела в России».
Успел отправить Цесарской еще одно письмо. В нем выделялось совсем нетуристское желание: «Мне особенно хочется посмотреть немецких „единоличников“».
Трудно понять мир писательских чувствований, которые у Шолохова всегда в неких, до поры до времени необъяснимых, связках. Так, 12 декабря 1930 года впервые появилось в немецкой прессе заявление — займусь, дескать, новым романом, в котором расскажу о «русских единоличниках». Правда, название своего будущего сочинения не огласил и не стал, по обыкновению своих собратьев по перу, обозначать тему и сюжет.
Видимо, не случаен был его внезапный порыв — домой, домой. Не до продолжения вояжа. Это кажется странным для человека — молодого, — у которого появилась редчайшая возможность побыть за границей. Обозначил это свое будоражащее желание в письме той же Цесарской: «Бывает, что не хотят ехать в Союз, а тут вдруг хотят, и очень. Словом, „совсем наоборот“. Я упорно стою на своем. Завтра дело выяснится с обратными польскими визами».
В делегации произошел раскол. Шолохов, как его ни уговаривали Клейменовы, настаивал: возвращаться! Верный друг Кудашев примкнул к нему, а Артем Веселый — за продолжение поездки. С тем и расстались.
Что же тянет домой? Ответ в письме Цесарской: «В Москве задержусь. А потом в район сплошной коллективизации. Страшно хочется посмотреть, как там и что. Дико и немыслимо жить здесь после того, как половину сознательной жизни прожил в условиях Дона советского. Так крепка эта пуповина, соединяющая меня с ним, что оборвать ее — не оборвешь».
Через два дня из-под пера Шолохова появляется еще весточка Цесарской: «Вернулся из Гамбурга. Сырым утром вошли в порт. В „Свободной гавани“ серая туча мачт парусников, огромные пароходы, туман и соленый запах моря. На борту ближнего заокеанского парохода стоит негр-матрос, смотрит на пристань, на город в мутной мгле. Откуда-нибудь из-под тропиков приплыл он с бананами и каучуком… Не хочу больше ездить по Европам — остобрыдло».
Ему тяжко держать в памяти то, что происходит на Дону, а в письме такое признание: «Сегодня получил твое письмо, какие-нибудь пять часов назад, и вот сейчас оно так выглядит, будто я его через фронты пронес… От твоего письма, знаешь ли, будто на меня милым ветром обдонским пахнуло. А знаешь ты, как пахнет ветер в степи в июле? Чуть, чуть слышен горьковатый и сладостный привкус сухой полыни в мощном запахе разнотравья. Хорошо и тягостно вспоминать в прокуренной комнате о тебе, и о степном ветре, и о дорогах, исхоженных и изъезженных за мою недолгую жизнь…»
Сообщает исполнительнице роли Аксиньи: «Да, в шведском переводе „Дона“ издатель даже перевернул обложку, так ты ему полюбилась. С первой страницы ты смотришь на мир, положив на коромысло руки, а парень с гармошкой — сзади на развороте». Речь об очередном заграничном издании, где по замыслу художника книги на обложке кадр из фильма «Тихий Дон».
Только-только вернулся в Вёшки — в самом конце декабря, а тут в ростовской прессе вместо интервью по случаю возвращения писателя из дальних стран раздался боевой клич с объявлением войны. Некто Янчевский, историк, разразился в журнале «На подъеме» статьей, от которой все опешили — даже партию не пожалел: «Роман Шолохова числится в списке произведений пролетарской литературы, который зачитан XVI съезду партии. И тем не менее я пришел к заключению, что „Тихий Дон“ — произведение чуждое и враждебное пролетариату…»
Дополнение. Еще год назад, в 1929-м, и РАПП, и «Правда» дружно выступили против обвинений писателя в плагиате. Горький в Сорренто это заметил: «Читал в „Красной газете“ опровержение слухов о Шолохове». Потом Горький почувствовал, что пресса почему-то остыла к защите писательской чести Шолохова.
Слухи же — обжигающие — продолжались. Был даже такой: якобы ходит по редакциям какая-то старушка и заявляет об авторстве своего сына. Миф не подтвердился — старушка так нигде и не появилась. После этого подыскали нового кандидата в авторы. Писатель Анатолий Каменский, когда выехал в Берлин, посвятил тамошнюю эмигрантскую общину в «шолоховские» сюжеты: «Москва была потрясена историей, связанной с „Тихим Доном“, романом молодого Шолохова. В литературных кругах внезапно „обнаружили“, что автором этого сенсационного романа был неизвестный белый офицер с Кавказа, расстрелянный Чрезвычайной комиссией (ЧК). Говорили, что Шолохов, служивший в ЧК, случайно завладел бумагами убитого, среди которых была и рукопись романа. Государственное издательство якобы получило письмо от пожилой женщины из провинции, в котором она заявляла, что роман принадлежит ее сыну, которого она не видела уже много лет и считала погибшим. Государственное издательство, желая порадовать писателя, попросило женщину приехать в Москву и устроило ей встречу с Шолоховым, которая, впрочем, кончилась ничем, так как старушка не признала в Шолохове своего сына…» К концу своей речи подытожил: «Творческая энергия писателей, лишенных возможности писать и печататься, часто находит выход в создании самых невероятных историй и распространении диких и нездоровых слухов в связи с любым сколь-либо значительным событием в литературе».
Новая версия: будто бы рукопись умирающего от тифа при отступлении белых писателя Федора Крюкова прибрал к рукам будущий тесть Шолохова и одарил ею зятя. И еще вереница всяких нелепиц бродила по свету: от какой-то женщины пошла весть, что это ее брат автор романа, дескать, писал в Гражданскую, рукопись при аресте оказалась у следователя ГПУ. Назывались также в качестве автора «Тихого Дона» есаул Иван Родионов, штабс-капитан Иванов из Вёшек, какой-то есаул Кухтин, донской литератор Р. П. Кумов, некий Арсеньев, что был расстрелян красными, тесть Шолохова — Громославский и даже Мария Петровна…
«Не обессудьте за „нытье“»
Сталин нашел время и возможности стать единовластным вершителем судеб молодой советской литературы.
«Не обессудьте за „нытье“» — такую фразу вывел Шолохов в одном из писем, где описывал свои мытарства с «Тихим Доном».
Выделил слово «нытье» — взнуздал его в кавычки, будто намекал, что это слово становится для всех пишущих «профессиональным». Так, Сталин в этом же году сообщал Горькому о своем желании «…сократить количество ноющих, хныкающих, сомневающихся и т. п. путем организованного идейного (и всякого) воздействия».