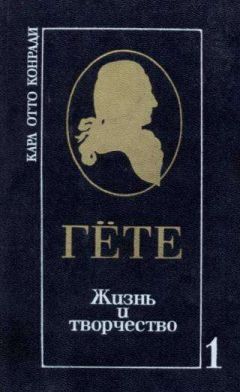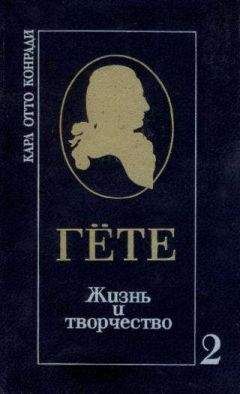Каковы бы ни были все эти взаимно перекрещивающиеся импульсы, требования и предположения, связанные с пиетизмом и герметизмом, они вели к обогащению жизневосприятия, к знакомству со взглядами, претендующими на универсальность (в чем и заключалась их притягательность), и к выработке собственных представлений, которые давали опору исканиям, не принося, разумеется, полного успокоения. «Умножая знания, умножаешь беспокойство» — эта старая мудрость оправдывается и в данном случае. В этот кризисный период дали себя знать и религиозные потребности,
116
которые могли бы быть удовлетворены лишь тогда, когда ищущий был бы преисполнен решимости. Односторонность его не устраивала, самоудовлетворенность казалась подозрительной. Это–то и оттолкнуло его в Страсбурге от пиетистов. «Сплошь люди среднего ума, у которых пробудились лишь первые религиозные чувства, появилась первая разумная мысль, и они думают — это все, оттого что ничего не знают» (к С. фон Клеттенберг, 26 августа 1770 г.).
Религиозно–философские размышления смогли помочь стабилизации собственной жизни. Если в человеке бьет «необходимый пульс жизни» и ему дано в системе божественного миропорядка «через равномерные промежутки времени» «уходить в свою сущность» и «отрекаться от своей обособленности», то все дело заключается в том, чтобы подобная личность могла полностью выявить себя, разжигая снова и снова жизненный огонь, заключенный во всем живом. Если нельзя себе представить бога вне природы и природу вне бога, природа, следовательно, нечто иное, чем привлекаемая по мере необходимости декорация к поэтической игре в духе рококо, и нуждается в совсем другом языковом выражении. То, что стало возможным для Гёте в Страсбурге и позднее, находится в тесной связи с вышеприведенным.
Запись, находящаяся в «Эфемеридах» перед цитированной выше и начинающаяся словами «говорить о боге и о природе…», читается сегодня как раннее введение к «учению о цвете». Она обращает на себя внимание своим спокойным тоном и точностью наблюдений и описаний:
«В середине января случилось следующее явление. На том месте у горизонта, где обычно летом заходит солнце, было необычно светло, голубовато–желтое сияние, как в самую ясную летнюю ночь на месте, где закатилось солнце, и свет этот захватил, поднимаясь, четвертую часть видимого неба, над ним появились рубиново–красные полосы, которые, хотя и несколько неравномерно, устремлялись к желтому сиянию. Эти полосы все время менялись и достигли наконец зенита. Видно было, как сквозь них сияли звезды. С обеих сторон, с запада и с севера, это было охвачено темными облаками, некоторые из коих парили на фоне желтого сияния. Небо было кругом окаймлено. Красный цвет был настолько силен, что он окрашивал дома и снег и длился он почти что целый час, с шести и до семи. Вскоре небо затянуло, и пошел сильный снег».
В эти месяцы во Франкфурте больной, а затем вы–117
здоравливающий Гёте, конечно, не только общался с пиетистами, изучал герметические сочинения и ставил алхимические опыты. (Сейчас уже никто не может точно сказать, какие книги он действительно прочел и насколько основательно.) В конечном счете он ощущал себя поэтом и художником, и начатое в Лейпциге он продолжал и сейчас: рисование и гравирование. В октябре 1769 года вышли уже упомянутые «Новые песни» (год обозначен: 1770), положенные на музыку Бернгардом Теодором Брейткопфом, — первая книга Гёте, правда, без упоминания его имени. Хотя некоторые стихотворения и принадлежат к франкфуртскому периоду, в целом они выдержаны в его «лейпцигском стиле».
Интересы Гёте не были ограничены. В письме к лейпцигскому книготорговцу Рейху от 22 февраля 1770 года он упоминает учение Адама Эзера о том, что простота и спокойствие составляют идеал прекрасного, и сразу же добавляет: «После него и Шекспира единственный, кого я могу признать своим истинным учителем, — это Виланд…» Несколько позднее, 11 мая 1770 года, сообщив в письме к Эрнсту Теодору Лангеру, что его интерес к герметизму нисколько не ослабел, он патетически восклицает: «О, это длинный ряд от скрижалей Гермеса до «Музарион» Виланда». Дистанция действительно большая, от «Tabula smaragdiana», приписываемой Гермесу Трисмегисту, до стихотворной повести «Музарион, или Философия граций», вызвавшей восторг у лейпцигского студента в 1768 году, когда Эзер показал ему наборные листы. Восхитительной гречанке Музарион удается в конце концов излечить своего друга Фания от безумия аскетического образа жизни и привести к спокойным земным радостям. Разум и чувственность соединяются в жизнеутверждающем согласии, а высокомерие внешне весьма достойных философских убеждений обнаруживает свою действительную суть: враждебную жизни и человеку односторонность, «мишурный блеск ложной добродетели и громких слов».
В октябре 1769 года Гёте посетил Античный зал в Мангейме, пользовавшийся тогда известностью: больше нигде в Германии нельзя было увидеть такое множество гипсовых слепков с античных скульптур. В письме к Лангеру от 30 ноября, написанном по–французски, Гёте рассказывает о своих впечатлениях. Позднее в «Поэзии и правде» он соединил это первое посещение выставки в Мангейме со вторым — на обратном пути из
118
Страсбурга осенью 1771 года. Наибольший интерес вызвала у Гёте группа Лаокоона с сыновьями.
Винкельман в работе «Мысли о подражании греческим произведениям в живописи и скульптуре» (1755) именно на этой скульптурной группе стремился показать «благородную простоту и спокойное величие» как «общий преимущественный признак выдающихся произведений греческой пластики», не сводя всего, однако, к этой формуле, ставшей расхожей. «Подобно тому как глубины моря всегда остаются спокойными, как бы ни бушевали волны на поверхности, выражение фигур у греков свидетельствует при всех страстях о великой и сдержанной душе», — звучит следующая фраза. Идеал Винкельмана, таким образом, полон внутреннего напряжения и не укладывается целиком в слова о «простоте» и «спокойном величии». Под спокойной поверхностью могут скрываться страсти, или полное страсти выражение позволяет угадать «великую и сдержанную душу». Через десятилетие после Винкельмана Лессинг попытался на примере Лаокоона определить различие между скульптурой и поэзией. Если бы изваянный в мраморе Лаокоон закричал бы, то он кричал бы вечно. В поэзии же крик, поскольку поэзия связана с течением времени, является лишь преходящим моментом, и поэтому в ней кричащий Лаокоон допустим. Гердер вступил в полемику с этой точкой зрения в своих «Критических рощах» (1769). Гёте со своей стороны писал в «Поэзии и правде»: «Пресловутый вопрос, почему он не кричит, я решил для себя следующим образом: он и не может кричать. Действия и движения всех трех фигур уяснились мне из самой концепции группы. Напряженно необычная и в то же время высокоправдивая поза центральной фигуры обусловлена двумя причинами: Лаокоон тщится сбросить с себя змей, но в то же самое мгновение его тело прянуло назад от нестерпимой боли укуса. Чтобы смягчить эту боль, он невольно втягивает низ живота, и крик становится невозможным» (3, 423).