С Павловым и с Евгением Веймарном добрые отношения сохранились надолго: Павлов с начала тридцатых годов стал заведовать древневосточным отделом Музея изобразительных искусств, так что мы виделись постоянно; он подарил мне свою (первую в советскую эпоху) книгу о древнем египетском искусстве. Евгений Веймарн жил в Бахчисарае, в Крыму, и мне ярко запомнилось мое посещение его в середине 50–х годов: мы с Борисом Веймарном, младшим братом Жени Веймарна, возвращались вместе в Москву из Гурзуфа, и Борис предложил мне по дороге завернуть в Бахчисарай. А Женя предложил мне посмотреть только что случившуюся сенсационную археологическую находку поблизости от Бахчисарая: скелет неандертальского мальчика. Мы отправились в рощу, где он лежал. И увидели сидящего рядом с ним на траве археолога — реставратора Герасимова, толстого, волосатого, гораздо больше похожего на неандертальца, чем маленький и даже изящный мальчик.
На моем курсе близкими мне людьми были Наташа Гершензон — моя будущая жена, Наташа Гурвич, дочь известного профессора — биолога А. Г. Гурвича, Жанна Каганская — старше нас, яркая, экспансивная, Шура Журов, молчаливый, застенчивый, ставший после окончания отделения истории искусств учеником В. А. Фаворского и прекрасным гравером; Давид Лебит и Женя Кронман.
Профессорский состав был на редкость разный и неровный. Деканом отделения был Алексей Некрасов, читавший историю древнерусской архитектуры, худой, нескладный, угловатый, с торчащими усами, необычайно восторженный знаток своего любимого дела. Он читал лекции очень пылко и увлеченно и давал точные и исчерпывающие знания о том, что он нам показывал. А показывал он не диапозитивы, а самые памятники, возил нас и в Коломенское, и в Дубровицы, и в Ростов Великий, где мы слушали удивительные по красоте «ростовские звоны». Язык у него был очень причудливый, но весьма выразительный: «Посмотрите, какой там пупырь вытарчивает!»
Искусство Востока читал Борис Петрович Денике. Он был веселый доброжелательный человек, держался со студентами на равных, участвовал в устраивавшихся студентами вечеринках, где прекрасно танцевал. Мы его очень любили. Но лекции он читал не слишком совершенно. Он приносил очень хорошие и интересные диапозитивы, которые всегда показывал я, но лекция часто сводилась к весьма лаконическим и малосодержательным суждениям. Скажем, лекция посвящена персидской миниатюре. Он говорит мне: «Пожалуйста, следующий. Вот вы видите тут довольно маленькие слоны, на которых едут довольно большие персы. Пожалуйста, следующий». Все же он сохранил о себе добрую память. Он подарил мне, когда я был еще студентом, свою книгу о японской гравюре.
Русскую историю превосходно читал Сергей Владимирович Бахрушин. Это было подлинно высоконаучное изложение, умное, яркое, оригинальное. Он выучил меня по- настоящему серьезно обращаться с историческими источниками. Раз он задал мне сочинение о серии документов семнадцатого века, я отнесся к делу легкомысленно, написал нечто очень общее, что уместилось у меня на одной странице. Бахрушин сердито забраковал такое сочинение и подробно объяснил мне, как нужно приниматься за анализ источников. Я написал очень тщательно и внимательно сделанный разбор предложенных мне документов и заслужил добрую похвалу от Бахрушина. Этот урок я не забыл никогда. А Бахрушин вполне справедливо вскоре был избран в Академию Наук.
Игорь Эммануилович Грабарь читал нам курс реставрации. Читал он плохо — это были сплошные «Эээ…» и «Меее…», но показывал он вещи удивительные. В реставрационной мастерской Третьяковской галереи он показал нам только что раскрытые древнерусские иконы: «Владимирскую Богоматерь», «Спаса Нерукотворного», «Троицу» Рублева, «Преображение» Феофана Грека, «Ангела» — того, что ныне в Русском музее в Петербурге. Впечатление от этих сокровищ было не поразительное, а потрясающее — ведь тогда впервые открылось в истории русской художественной культуры нечто, равное по величию и силе искусству Древней Греции или итальянскому Высокому Возрождению. С Грабарем мне потом пришлось встречаться всю мою жизнь, и кое в чем он сыграл в моей жизни важную роль, хотя человек он был неверный и слишком самоуверенный. Но об этом — позже.
Социологию искусства читал Фриче — «отец» советской вульгарной социологии. Уже тогда было в ходу выражение «фричёванная литература». Но я решительно не могу вспомнить, как он нам читал. Помню лишь один эпизод: когда я сдавал ему зачет, он предложил мне рассказать о каком‑нибудь русском художнике. Я выбрал Сурикова и доложил Фриче восторженный дифирамб о моем любимом художнике, в котором (в этом дифирамбе) не было ни тени какой‑либо социологии. Фриче улыбнулся, поставил мне зачет и только сказал: «Вы очень любите Сурикова». А я действительно доказал печатно, как люблю этого прекрасного художника. В самом начале 1937 года в Третьяковской галерее была устроена выставка Сурикова, и так как незадолго до того вышла книга о Сурикове А. Михайлова, погромно — социологическая, то и каталог, выпущенный галереей, был выдержан в таком же мрачно негативном тоне. Меня очень возмутили эти покушения на честь и достоинство Сурикова, и я напечатал о нем статью, в которой попытался высказать свое мнение о достоинстве и красоте суриковского искусства и дал резкую отповедь Михайлову и каталогу, сочиненному галереей. Моя статья сыграла немаловажную роль — это было одно из первых открытых выступлений против вульгарной социологии, заполонившей литературоведение и художественную критику. В галерее моя статья вызвала великое негодование, два дня длилось ее обсуждение, и на меня собирались писать бурный протест. Но через неделю после моей статьи появилась хвалебная статья о Сурикове в «Правде», и Третьяковке пришлось «пришипиться»: афиша, приглашавшая на выставку Сурикова, говорила о «выставке известного русского исторического живописца», а билет на обсуждение выставки говорил уже о «выставке великого русского художника Сурикова».
Я крайне редко в своей жизни писал о старом (дореволюционном) русском искусстве, но эту статью о Сурикове люблю и перепечатал ее в своем сборнике статей о советском искусстве, вышедшем в 1984 году.
Два профессора были очень неприятны и пользовались дружной антипатией студентов — Алексей Алексеевич Сидоров и Михаил Исаакович Фабрикант. Сидоров представился нам как ученый секретарь Государственной академии художественных наук (ГАХН), сказал, что в этой академии он занимается оккультными науками и пишет фундаментальный труд — «Историю русской порнографии». Надо сказать, что мне этот человек с первой сказанной им фразы резко не понравился, и я не ошибся в своем мнении о нем. На первом курсе он читал нам искусство Древнего мира, читал в Музее изящных искусств, и читал крайне манерно и с порядочной дозой прямой пошлости. Поэтому, когда мы перешли на второй курс и узнали, что об искусстве Возрождения в Италии будет читать Сидоров, мы тотчас установили принудительную очередь, чтобы на лекции было хотя бы три — четыре человека. А на третьем курсе просто отказались его слушать, и его лекции не состоялись.
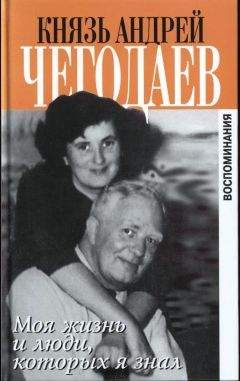
![Юлия Кулинченко - От топота копыт [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)


