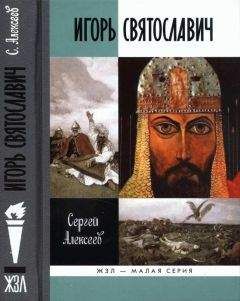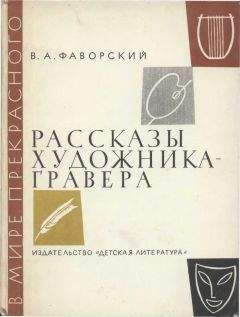- Дак чего там дядя Никифор? Готовится?
- Куда готовится? - не понял Сергунок.
- На войну. Куда ж еще?
- Не-е! - зазвенел голоском Сергунок.- У них там никакой войны нету.
- Как это нету.
- Дядя Никифор с мужиками на речку ходил. Должно, рыбу ловить.
- Так... А тетка чего?
- А теть Кать хлеб пекла с маком. А потом чего-то шила. Она и нам колобок прислала.- Сергунок поддал сумку спиной.
- Ага... Ну ясно... А ты-то почему долго? Али забаловался? Мать вон истекалась: нету и нету.
- Ну дак дядя Никифор на речке был! - обиделся Сергунок.- А когда пришел, вот это написал и велел передать.
Касьян мазнул Сергунка по щеке ладонью.
- Молодец.
Старуха Ефросинья Ильинична, все эти дни горестно молчавшая, неслышная в своем топтании по дому, уже обряженная в новый крапчато-белый платочек, выслушала известие о старшем сыне как-то равнодушно, словно до нее не доходили эти слова или вроде они сами собой разумелись.
- Ну-к што ш...- обронила она, помолчав.- Тади садитесь обедать.
И, ссутулясь, тенью побрела в катаных порках на кухню, оставив за собой тягостную тишину.
Касьян, сам не ведая для чего, аккуратно свернул синюю бумажку по прежним сгибам и, как налоговую квитанцию, бережно засунул за Николу, который спокон веку хранил все ихние счета с посюсторонней жизнью. Оказывается, вблизи Никола был напрочь лыс или, как Матюха Лобов, наголо обстрижен. "А о н и - т о идут, идут..." - опять напомнил он одними глазами.
- Это твое, Кося,- почему-то шепотом сказала Натаха, указав на сундук, где высилась горка, прикрытая белым.- Проверь, что не так...
Касьян машинально приподнял край, увидел стопку нижнего белья, ковригу хлеба, кучку яиц, кружку, резную ложку и еще какие-то узелки и свертки.
- Табак там? - спросил он о самом главном.
- И табак, и спички - десять коробок. Хватит десятка? А это вот соль в мешочке. Тут мыло. В этом чулке, запомни, тетрадка с карандашом. А в другом чулке - нитки с иголками и пуговками. Курицу ешь сразу, не держи...
- А в сумке что?
- Сухари. Про всякий случай.
- Куда столько всего? Благо ли носить?
- Носить - не просить, Кося. Лишком и поделиться можно.
- Пап! - Сергунок дернул Касьяна за брюки.- Пап, а ножик не забыл?
- Какой ножик? - не сообразил Касьян.
- Складничек который.
- А-а...
Касьян сунулся в карман: нож был на месте. Он достал его, повертел в руках и протянул Сергунку.
- Так уж и быть, это тебе.
- А ты? - не решился принимать Сергунок.- Как же на войне-то без ножика?
- Бери, бери. Отца вспоминать будешь.
Сергунок, не веря себе, схватил складник и закраснелся по самые уши. Оглянувшись на Митюньку, который зазевался, упустил этот момент, он юркнул в кутник за полог.
- А бритву я пока не клала,- напомнила Натаха.- Ты сперва побрейся, покуда соберем обедать. И на-ка надень вот это.
Она вложила в Касьяновы руки новую рубаху, которую купила еще к маю,черную с частым рядом белых пуговиц.
Касьян послушно достал из-за ходиков завернутую в тряпицу бритву, нацедил кружку кипятка и, прихватив рубаху, рушник и кругляшок зеркальца, уединился во дворе под навесом. Там он неспешно, старательно выбрился, чтобы хватило дня на три, ополоснул из кружки лицо и надел рубаху, еще пахнущую лавкой. И пока он собирался к столу, Натаха тоже успела переменить кофту, умыть и причесать ребятишек. Оба они уже сидели рядышком на своих местах и, разобрав ложки, смиренно и нетерпеливо поглядывали, как бабка носила из кухни съестное. На середине стола в глиняной черепушке дразняще парила сваренная целиком курица, потом появились свежие, едва только двинувшие в рост огурцы-опупки, томленная на сковороде картошка, желто заправленная яйцом миска с творогом, блюдо ситных пирогов, распираемых гороховой начинкой с луком, и под конец бабушка подала лапшу: одну посудину поставила на двоих Сергунку с Митюнькой, другую - отцу с матерью, а третью, маленькую, поставила на угол себе. Не каждый день на стол, выставлялось сразу столько всего хорошего. Война войной, не всякую минуту о ней помнилось, как о любой игре, еда же была - вот она, и это обилие пищи невольно настраивало ребятишек на предвкушение нежданного празднества. И было слышно, как они возбужденно перешептывались:
- Ух ты! Глянь-кось, пироги! Я вон тот себе возьму.
- Какой?
- А вона. Который самый зажаристый.
- Ага-а, хитленький!
- А кто в Ситное ходил?
- Ну и сто? А я в магазин зато.
- Ох, даль какая. Небось мамка несла?
- Как дам...
- А во - нюха?
- А ты... а ты Селгей-волобей. Селый! Селый!
- А ты Митя-титя.
- А зато мне кулиную лапку, ага!
-- Прямо, тебе!
- А сто, тебе, сто ли ча? Все тебе да тебе.
- И не мне.
- А кому за?
- Это папке курицу. Папка на войну идет, понял? Когда вырастешь большой, пойдешь на войну, тади и тебе дадут.
Вошла бабушка с ковригой хлеба и, отерев ей ладонью донце, протянула через стол Касьяну.
- На-ка, кормилец, почни,- сказала она слабым, усталым голосом, перекрестясь в угол.- Не знаю, удался ли...
Ребятишки притихли, оборвали свои пререкания.
Бессчетно хлебов пеклось на Касьяновом веку, но всякий раз взрезать первую ковригу было радостно, будто вскрывалась копилка сообща затраченного недельного труда, в которую от каждого, мал или стар, была вложена посильная лепта, и всегда это делалось при полном семейном сборе.
Некогда этот же стол, нехитро затеянный, но прочный, из вершковых плах, рассчитанный на дюжину едоков, возглавлял дед Лукаша, от которого в Касьяновой памяти уцелели его бело-дымная борода до третьей пуговицы на рубахе да грабастые жесткие руки, измозоленные веревками и лапотным лыком. И помнилось, как он, перекрестясь и прижав ковригу ребром к сивой посконной груди, осыпав ее белым волосом бороды, надрезал первый закраек, разглядывал и нюхал, а бабушка, стоя за его спиной, трепетно ждала своего суда. Потом дед Лукаша, ослабев и избыв, уступил суд Касьянову отцу, а отец вот уж и самому Касьяну. Так и менялись за этим столом местами - по ходу солнца. На утренней стороне, как и теперь, всегда теснились ребятишки, на вечерней женщины, а в красном углу, в застольном зените, всегда сидел главный резальщик хлеба, пока не приходило время уступить нож другому.
Касьян, держа большой самодельный нож из стального окоска, принял из материных рук ковригу, отдававшую еще не иссякшим теплом, и только чуть дрогнул уголками рта при мысли, что это его последний хлеб, которым ему нынче предстояло оделить семью. Наверное, это осознавали и все остальные, потому что, пока он примерялся, с какого края начать, и Натаха, и бабушка, и Сергунок, и даже Митюнька прикованно, молча глядели на его руки. И оттого сделалось так тихо, что было слышно, как поворачиваемый хлеб мягко шуршал в грубых Касьяновых ладонях.