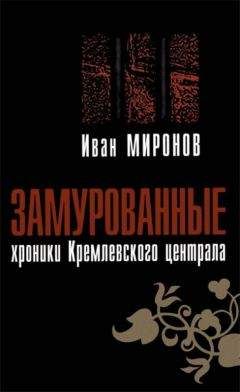Прекрасно понимая, что наша хата по оперскому определению без суки не может обойтись, грешим с Френкелем на Сашу. Кандидатура вполне подходящая, тем более если не мы, то кто же? Исходя из этого, Леша избрал очень интересную политику по отношению к соседу. Он начинает «гнать дуру» раздражающе навязчиво и потрясающе естественно, так что казалось, вот оно — его настоящее «я» — взрослого придурковатого ребенка. Во время еды может по нескольку раз, тупо, но искренне улыбаясь, доставать Сашу вопросом: «А есть такое животное — Ефимус обжиратус?» Может часами насвистывать себе под нос «Ляля-ля, жу-жу-жу, волосатого рожу» или декламировать стихи:
«Сегодня праздник у ребят,
ликует пионерия,
сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Палыч Берия…»
Все споры, в которые Саша пытается затащить банкира, пресекаются размеренной фразой последнего:
«Как говорит моя мама — на вкус и цвет товарищей нет».
Каждый раз, обнаруживая в собеседнике полудурка, Золин покорно отступает, сосредотачиваясь на картинках, сканвордах и каллиграфических письмах жене. А Френкель, поправляя очки, снова обращается к жалобам, ходатайствам и заявлениям. Но двадцать четвертого сентября Золина из хаты забрали. По его отбытии Леша тут же избавился от умственной инвалидности — удивлять стало некого.
Раз в два дня играем в шахматы. До знакомства с Френкелем я знал только, как ходят фигуры, ну и некоторые правила. С десяток первых партий, сыгранных с банкиром, заканчивались очень быстро и неожиданно, даже с учетом того, что каждый ход Френкель мог обдумывать минут по двадцать. Дальнейшие матчи уже не напоминали поддавки, хотя и заканчивались неизменной победой Френкеля. В среднем наши партии длились по два-три часа с обязательной записью ходов и последующим разбором полетов. Спустя две недели прогресс налицо — на десять партий в среднем приходится одна ничья и две моих победы.
Каждый день ждем замену Золину, но проходит день, другой, третий — шконка оставалась свободной.
Бабье лето отбрасывает сквозь решку бронзовые блики, воздух пьянит приятным бархатным холодком запотевшей стопки. Френкель целыми днями пропадает в судах и на ознакомке. Одиночество умиротворяет, запуская мысли лишь в книги, вырывавшие сознание из тюремных стен. «История Флоренции» Макиавелли, «Критика чистого разума» Канта, «Фауст» Гёте, биография Дзержинского, «Рассказы» Аверченко, «Талейран» Тарле… Читаю много, читаю жадно, наверстывая годы университетского безделья.
И все бы хорошо, если бы не маленькие дворики, в которые нас продолжают водить мстительные цирики из-за мелочного сутяжничества банкира.
Как-то во время прогулки у углу у тормозов я затеял бой с тенью: удары в воздух на резких выдохах. В другом конце загончика разминался Френкель. Через пару минут в шнифте показался глаз и раздался неразборчивый голос продольного. Но громыхала музыка и ничего, кроме нее, не было слышно.
— Чего тебе, старшой? — кивнул я в сторону тормозов, оттуда в ответ снова раздалось неразборчивое мычание.
— Не слышу тебя, — проорал я. — Открой кормушку и скажи.
Глазок закрылся. Продольный подтянул офицера с ключами, который отворил кормушку. В ней появилась голова цирика.
— Не дыши так громко или отойди от двери, — прокричал вертухай, неловко улыбаясь.
— А то даже на продоле слышно.
Ага, значит, именно в этом углу вмонтирован направленный микрофон. Однако тщательное изучение стены и решетки результата не дало. Игра в шпиономанию выглядела увлекательно. Вернувшись в хату, я наглухо запечатал наиболее подходящую под закладку аппаратуры розетку газетными пробками. Расчет был прост: если в розетку вмонтирован микрофон, значит, не сегодня-завтра придут техники. Но пришли не техники, на следующее утро нашу хату просто раскидали.
С Френкелем мы просидели два месяца. Дружно и весело, спокойно и интеллигентно. Пожалуй, ни в ком еще до этого я не встречал столько упорства и, что самое главное, оптимистического отношения к сложившейся ситуации. Ефимыч, наверное — единственный на моей памяти зэка, который сумел превратить арестантскую долю в увлекательную для себя прогулку.
Из хаты меня вывели первого. Недолгая дорога на новый адрес — по тому же этажу метров двадцать лязгнули запоры 507-й, и я зашел в камеру, рассчитанную на восемь человек. Три пустых шконки раздражали взгляд холодной железной клеткой.
— Ваня, ха-ха, здорово! — раздался знакомый голос, в обладателе которого я безрадостно обнаружил Заздравнова. Лицо, слепленное из желваков, с непропорциональными оттопыренными ушами, раздирала хамоватая улыбка. От былой нервно-судорожной изжоги, привитой ему в 601-й, не осталось и следа. Теперь Лешины манеры отдавали хозяйской прытью, безоблачным небом и безлимитным холодильником.
Закинув вещи в хату, я огляделся по сторонам. Первое, что сразу бросалось в глаза, — отсутствие коллективной спайки. Сидельцы были разнородны. В хате стояла атмосфера спящей напряженности. Помимо разбушлаченного Заздравнова, в активный разбор прибывших продуктов включился невысокий человечек со стянутым болезнью желтоватым лицом, отражавшим недуг и страдание. Скрюченный, укутанный в слоеный гардероб, он походил на бесплотную тень, без души, судьбы и возраста.
У дальней стенки сидели на шконке и вполголоса беседовали здоровенный кавказец и высокий лысый еврей лет пятидесяти. Посреди хаты возвышался бычара с полусумасшедшей улыбкой и беспокойно снующими глазами, одетый в потрепанную футболку, на которой спереди большими буквами выведено «Россия», сзади — текст нетленного гимна. В быке-патриоте я узнал одного из подсудимых по делу Орехово-Медведковских. Да и сложно забыть увиденную по телевизору расплывшуюся улыбкой физиономию человека в аквариуме и цепях на фоне чтения жестоких приговоров — Володя Грибков, бывший охранник лидера группировки Олега Пылева. Грибок являлся рекордсменом по долгожительству в 99/1. Он сидел семь с половиной лет. Будучи главным свидетелем обвинения по делу когда-то самой могущественной и беспредельной команды в Москве, за которой только официально доказанные шестьдесят трупов, Грибок сидел нервно. Благодаря его показаниям суд уже выписал несколько пожизненных сроков подельникам, еще парочка путевок на «Остров огненный» ожидала своего часа в ближайшее время. За высокие отношения с органами следствия Грибок получил одиннадцать лет, до выхода по условно-досрочному ему оставался год. Однако перспектива свободы представлялась Володе весьма туманной. С одной стороны, его откровения не могли остаться забытыми бывшими соратниками по оружию, с другой стороны, кровь братвы и воров, сполна пролитая «орехами» и «медведями» в девяностые, требовала жестокого отмщения, неумолимого и неотвратимого. Сегодня этот камень на душе, завтра — на шее. Каково с ним жить? Или скорее доживать с мыслями о том, чья расправа окажется проворней — бывших друзей или бывших врагов. Раскаянье или предательство, подлая месть или справедливое возмездие, что будет — не нам судить, не нам решать, ибо судьба мудрее и строже нас, ее приговор не отменит ни одна кассационная жалоба.