дал ей самое лучшее образование. Она умерла внезапно, родами, в феврале 45 года до н. э., не дожив до тридцати лет. Горе раздавило Цицерона, он долгие месяцы страдал от боли. Периодически на него нападали приступы рыдания, и друзья мягко пытались убедить его держать себя в руках [77]. Однако эта потеря не сблизила его с другой женщиной, здравомыслящей и молодой, тоже принадлежавшей к поколению его дочери. Когда он увидел, что новая жена, совсем еще подросток, недостаточно сильно потрясена его утратой, Цицерон избавился и от нее. Они развелись через несколько месяцев после свадьбы.
«О гордости же самой царицы, когда она находилась в садах за Тибром, не могу вспомнить без сильной скорби» [12], – писал Цицерон в середине 44 года до н. э. В этом смысле они друг друга стоили: оратор признавался, что ему свойственны «некоторое тщеславие и даже славолюбие» [13]. Позже Плутарх высказался более развернуто [14]. Каким бы он ни был умницей, как бы ни был разобран на цитаты, но бесконечные дифирамбы Цицерона самому себе очень утомляли. Его труды полны беззастенчивого самопиара. Дион тоже не особенно церемонился, описывая первого римского оратора: «Это был величайший хвастун на свете» [15]. Особенно гордыню Цицерона тешила личная библиотека – наверное, главная любовь его жизни. Сложно сказать, что могло доставить ему больше радости – ну разве что уклонение от закона о расходах. Ему нравилось считать себя состоятельным человеком. Он гордился своими книгами. Этого было вполне достаточно, чтобы не любить Клеопатру: умные женщины с более крутыми библиотеками, чем у него, заставляли Цицерона чувствовать себя трижды оскорбленным.
Он ругал Клеопатру за высокомерие, но вообще «высокомерный» – едва ли не любимое его слово. Цезарь у него высокомерный. И Помпей. И верный соратник Цезаря Марк Антоний, для которого у оратора нашлись и гораздо менее лестные определения. Александрийцы тоже высокомерны. И даже победа в гражданской войне названа им высокомерной. Цицерон привык к лаврам неподражаемого мастера красноречия. Клеопатра, обладавшая не менее острым языком, раздражала. И неужели ей правда необходимо все время строить из себя царицу? Он был уязвлен в своих лучших республиканских чувствах, несомненно, обострявшихся на фоне собственного скромного происхождения. Тут оратор не одинок: многие отмечали надменность Клеопатры. Стратегические игры давались ей лучше дипломатических. Вполне вероятно, что она бывала бестактна – в роду многие страдали манией величия. И при случае напоминала окружающим, что вообще-то несколько лет самостоятельно правила «обширным царством» [16]. Надменность часто усугубляется вдали от дома. В конце концов, у Клеопатры имелись основания уверовать, что она спустилась сюда из горних сфер: никто в Риме не мог похвастаться такой, как у нее, родословной. Цицерона раздражало, что она прекрасно это знает [17].
Тем временем тучи над царицей-гордячкой и безутешным философом сгущались. Цезарь слишком глубоко погрузился в военные дела, совершенно выпустив из виду старые проблемы, на которые многие из окружения ему указывали. Сделать надо было немало: реформировать судебную систему, сократить расходы, восстановить доверие к власти, возродить трудовую дисциплину, привлечь в город новых граждан, поднять общественную нравственность, добиться торжества свободы над славой – в общем, спасти город от падения [18]. Вместе со всеми остальными Цицерон начал анализировать мотивы Цезаря – дело такое же неблагодарное в 45 году до н. э., как и теперь. В конце года на полководца посыпались многочисленные почести – вплоть до обожествления, словно он был эллинистическим монархом. В течение нескольких месяцев в храмах установили его статуи. Его образ, вырезанный из слоновой кости, соседствовал на торжественных церемониях с изображениями богов. Его власть раздулась до совершенно нелепых размеров (Цицерон будет позже радостно перечислять все эти прегрешения. А пока он страшно гордится своими встречами с Цезарем). Его поведение, однако, вызывало ропот. Цезарь держался как человек, одержавший победу в 302 битвах, выступавший против галлов не менее тридцати раз, как человек, который «был неустрашим и непобедим до конца всей войны» [19]. В то же время он неохотно шел на компромисс. Игнорировал традиции. Военачальник в нем полностью вытеснил политика. Очаги недовольства регулярно возникали то тут, то там, а тлеющие в них угли искусно раздувались Цицероном и другими бывшими сторонниками Помпея.
В феврале 44 года до н. э. Цезарь провозглашается пожизненным диктатором. Снова на него льется дождь привилегий. Теперь он постоянно носит триумфальное платье и восседает на высоком кресле из слоновой кости и золота, подозрительно похожем на трон. Его профиль появляется на монетах – впервые такой чести удостоен ныне живущий римлянин. Все это вызывает противодействие: хотя сенат сам «поощрял и нахваливал его», сенат же потом «это самое и вменил ему в вину и стал распространять клевету о том, с какой готовностью он принимал поощрения и похвалу и как начал еще более из-за них кичиться» [20]. Цезарь, возможно, совершил ошибку, приняв все эти почести, но он наверняка чувствовал себя обязанным и не хотел никого обижать отказом. Неизвестно, что возобладало – сверхчеловеческое эго или сверхчеловеческое преклонение, которое в итоге погребло его под собой. Великий полководец лишь осложнил ситуацию, начав зимой подготовку к новой, крайне амбициозной военной кампании, которая грозила римскому кораблю очередным штормом. Он хочет завоевать Парфию, государство на восточной границе Рима, уже давно противящееся его господству. Эта перспектива совершенно не вдохновляет Клеопатру. Несмотря на ухудшающееся здоровье и фаталистический настрой, Цезарь собирается проложить для Рима путь в Индию. Ему пятьдесят пять, и он готовится к миссии, которая займет не меньше трех лет. К той самой миссии, в которой когда-то почти преуспел Александр Македонский. Цицерон сомневается, что Цезарь вернется, – даже и в том, что ему вообще удастся выехать.
Весной 44 года до н. э. римский диктатор отправляет в Парфию шестнадцать легионов и кавалерию и объявляет дату отплытия – 18 марта. Он, конечно, отдает распоряжения на время своего отсутствия – надо полагать, Клеопатра тоже начинает паковать вещи, – но город полнится страхами и сомнениями. Когда же будут решаться домашние проблемы? Как будет Рим без Цезаря? Это вполне резонная тревога, учитывая, что Марк Антоний проявил себя совсем не блестяще, пока Цезарь был в Египте. Антоний в роли заместителя был ненадежен, неэффективен и даже приобрел репутацию растратчика. К тем, кого интересовало, когда начнется восстановление республики, оракул той зимой оказался особенно жесток. Пророчество гласило – по крайней мере, так говорили, – что Парфию сможет завоевать только царь. Говорили, что Цезаря ждало неизбежное коронование. Это, возможно, был не более чем слух – об оракулах вспоминали, только когда это было удобно, – но он предлагал ответ


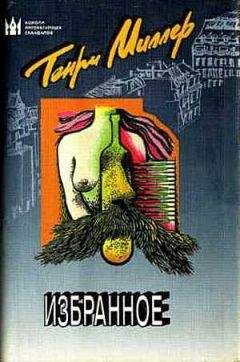
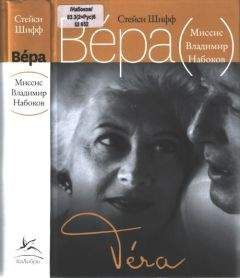

![Сильвия Дэй - Сплетенная с тобой [Entwined with You]](https://cdn.my-library.info/books/2818/2818.jpg)