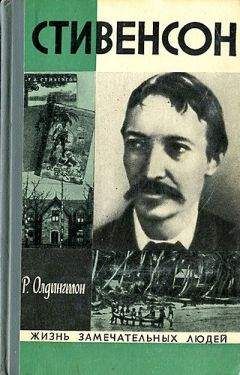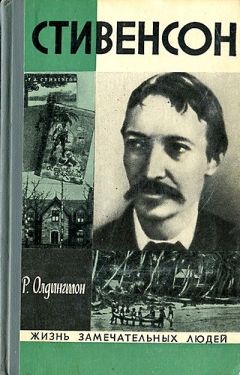«Эмигрант-любитель», которого, по словам Грэхема Бэлфура, «друзья Стивенсона критиковали чрезвычайно сурово», был откуплен у издателя отцом Луиса и опубликован только после смерти автора. Почему? Конечно, это было резонно, с точки зрения юриста Чарлза Бэкстера, так как даже спустя много лет и пароходная компания, и несколько человек из команды, а еще больше – из пассажиров третьего класса могли возбудить против Луиса дело за диффамацию. Но истинная причина крылась в ином – автор откровенно рассказывает, с какими бедными, чуть не нищими людьми он общался, и перемежает рассказ о реальных событиях размышлениями, слишком откровенными, чтобы они могли прийтись по вкусу читающей публике. В интересах «романтического» Стивенсона изъятие книги было вполне оправданно, но, если друзья критиковали ее за отсутствие литературных достоинств, они ошибались куда больше, чем следует из саркастического замечания Фэнни об их суждениях.
Каковы бы ни были ее недостатки – а какая книга, особенно хорошая, свободна от них? – «Эмигрант-любитель» был самым зрелым произведением из написанных Стивенсоном к тому времени. Называть его репортажем – значит недооценивать значение книг, она куда глубже. Действие развертывается так живо, что читатель невольно делается соучастником переживаний Стивенсона. В «Эмигранте-любителе» гораздо ярче отображаются социальное неравенство и жестокость во взаимоотношениях людей разных классов, чем в воспоминаниях Роберта Луиса о «howffs» Эдинбурга, где он играл в «бархатную куртку», иди о получасе, проведенном во французской тюрьме. Бессердечие команды по отношению к трюмным пассажирам, которым швыряли в лицо их пищу (в лучшем случае – объедки со стола пассажиров первого класса), с другой стороны – меркантилизм эмигрантов, убежденных в том, что единственная сила на земле – деньги, и ряд других наблюдений, лишавших эмиграцию романтического ореола в глазах Стивенсона и честно изложенных им на бумаге, вряд ли устраивали плутократов той эпохи, однако теперь представляют для нас немалый интерес. Книга является подлинным куском той «Истории английского народа», которую английские историки еще не написали и вряд ли напишут.
Однако «Эмиграпта-любителя» нельзя причислить к «социальному реализму», так как автор не имел определенных политических взглядов. Будучи консерватором, он любит человека, но не доверяет человечеству. Сам по себе ни один персонаж не вызывает у нас неприязни, и Стивенсон не был бы Стивенсоном, если бы чуть не с первых дней не выискал среди обитателей трюма милого ребенка – «некрасивого, веселого бесштанного малыша лет трех с белыми, как корпия, растрепанными волосами и перепачканным патокой и салом лицом», во всех движениях которого сквозили такие «грация и веселость», что «его можно было назвать прекрасным». В противовес этому он пишет, как его поразила привередливость некоторых ремесленников, отказывавшихся («этим даже свиней не кормят») от супа, каши и хлеба, которые сам он находил если не вкусными, то, во всяком случае, сытными. Они были слишком скованны, чтобы веселиться, и все до единого ненавидели войну, приписывая «свои неудачи а часто и свое пристрастие к виски военным кампаниям в Зулуленде и Афганистане». Критики воспрянули бы духом, прочитав следующее рассуждение: «Ничто так не украшает человека, как способность искренне восхищаться; наравне с любовью это свойство никогда не вызывает у нас презрения, даже если оно обращено на неподходящий объект». (В этом больше благожелательности, чем правды.) Им вряд ли понравился бы краткий, но безжалостный набросок человека, который ни разу не сказал ни одного «правдивого, доброго или интересного слова», но они, пожалуй, приняли бы русского, чья песня была «глухой, как коровье мычание, и дикой, как Белое море».
В довершение всего Стивенсон рисует портрет Маккея – тип, который в те времена был далек от процветания, а сейчас правит чуть не всем миром, толкая его к гибели.
«Его глаза были запечатаны корыстолюбием. Он ничего не видел, кроме денег и паровых машин. Он не понимал, что значит слово «счастье». Он забыл простые чувства, испытываемые нами в детстве, а возможно, никогда не вкушал восторгов юности. Он верил в производство, эту фикцию, столь полезную для экономики, словно она реальна, как смех, например; производство при воздержании от спиртных напитков было его богом и поводырем… Если ему казалось, будто что-то, неважно что, может помешать беспрерывному неистовому производству зерна и паровых машин, он негодовал, словно видел в этом заговор против народа… Одному нельзя научиться в Шотландии – быть счастливым. А ведь в этом вся культура и, пожалуй, две трети морали. Не случилось ли так, что, разлучив человека с природой, подавив в нем ряд инстинктов и наложив печать неодобрения на целый ряд его интересов и целые области его деятельности, пуританизм привел нас прямым путем к стяжательству?»
Обратившись от Маккея к остальным спутникам по плаванию, Стивенсон отзывается с похвалой о лучших из них за то, что они «не грубы, не суетливы, не любят спорить», «всегда готовы помочь, деликатны терпеливы и спокойны»; он даже считает, что их «деликатность лежит ближе к истокам истинного благородства, чем вежливость в более рафинированных и претенциозных кругах». И все же он вынужден сознаться, что:
«Все они, до единого, интересовались лишь отдельными фактами и стремились к сведениям ради самих сведений, – правда, люди всех классов проявляют подобный аппетит, когда ежедневно поглощают в огромном количестве всевозможную газетную болтовню… Они не видели связей между явлениями, но хватались за так называемую причину и считали вопрос решенным. Например, источником всех зол в Англии, по их мнению, было правительство, а следовательно, лекарством от них должен быть правительственный переворот… Они и слышать не хотят о том, что им самим надо исправиться, но желают, чтобы весь мир изменился в одно мгновение, и они смогли бы, оставаясь по-прежнему ленивыми, расточительными и распущенными, пользоваться жизненными благами и уважением, которые должны служить наградой за противоположные качества…»
Это лишь немногие примеры наблюдений, запечатленных в «Эмигранте-любителе». Некоторые из них, без сомнения, менее разительны сейчас, чем в то время, когда Стивенсон их делал, другие наводят такую же грусть, как пророчества Кассандры, когда наступает наконец время их свершения.
Тому, кто интересуется, как развивались мысль, мастерство и характер Стивенсона, книгу эту стоит внимательно прочитать от начала до конца. Человека, видевшего все то, о чем говорится в «Эмигранте-любителе», и сумевшего так рассказать об этом, нельзя обвинить в поверхностном знании жизни, как и в том, что он только и способен писать детские книжки или, пусть даже прекрасные по стилю, очерки и путевые заметки. Конечно, могут сказать, что его друзья из третьего класса знали, что он джентльмен, и намеренно или ненамеренно «выставлялись» перед ним. Однако Стивенсон решительно отрицает это. Ни пассажиры, ни команда, ни офицеры не отличались проницательностью лондонской или эдинбургской полиции и скорей напоминали полицейского комиссара из Шийона и французских хозяек гостиниц, принимавших его и сэра Уолтера за бродячих торговцев. Матросы называли его «приятель», офицеры – «милейший», а пассажиры-эмигранты считали его кем угодно – от каменотеса до инженера-практика. Так что познания, приобретенные им на корабле, не были искажены ложными отношениями, которые неизбежны при контакте различных классов. И вот именно за те черты, которые являются достоинствами этой книги, так называемые друзья невзлюбили ее и помешали Стивенсону ее напечатать. Чем, кроме снобизма, можно это объяснить? Быть принятым за бродячего торговца в глухой французской деревушке не страшно, это сочли забавной шуткой, к тому же Луис был в компании баронета, но благовоспитанная публика 80-х годов прошлого века, возможно, решила бы, что в «мистере Стивенсоне есть что-то не совсем симпатичное», раз на него глядят как на равного всякие, по его же словам, лентяи, пьяницы и бездельники. Вряд ли в ее глазах это делало ему честь. То, что он прилежно писал каждый день в каюте, выполняя дневной урок, его попутчики, как истые бритты, не ставили ни во что, считая это чепухой, для подобных людей нет смешнее занятия, чем «царапать пером». Добросердечный казначей корабля даже предложил Стивенсону переписать список пассажиров, сказав, что «ему за это заплатят».