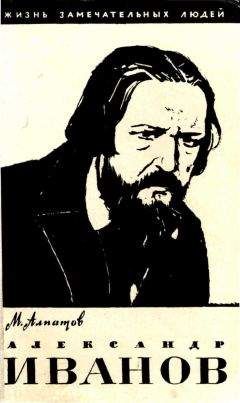Но доброта Иванова не исключала в делах творчества прямоты суждений. Когда это было необходимо, он прямо в лицо высказывал младшим товарищам свое неодобрение.
Иванов корил молодежь за то, что она отступала от пути художника, которому он сам следовал с такой самоотверженностью. В оценках Иванова проявлялась высокая взыскательность, которая не покидала его и тогда, когда он судил о своих собственных работах. Но дело шло не только о более или менее высокой степени мастерства и одаренности. Здесь происходило разграничение между произведениями истинно художественными, поэтически правдивыми, и произведениями, которые, имея внешние признаки искусства, на самом деле находились за его пределами. Обладая сноровкой и в ряде случаев развитым вкусом, молодые брюлловцы легко подменяли творчество ловкостью выполнения. Они прислушивались и приноравливались к тому, чего требовал потребитель, и не решались выйти за рамки общепринятого. В 1840-х годах даже грохот и блеск «Последнего дня Помпеи» Брюллова казался оглушительным, и потому они во всем старались сгладить резкие углы, приласкать глаз, успокоить взор и всем этим отвлечь внимание людей от противоречий жизни. Недаром верхушке общества, людям, которым хотелось жить беспечно и бездумно, так желанно было академическое направление. Можно представить себе, что среди таких отравленных ядом льстивости людей Иванов должен был чувствовать себя отщепенцем.
В 40-х годах Гоголь поддерживал связь с Ивановым главным образом посредством переписки. В Риме писатель появлялся изредка и ненадолго, и потому друзья вспоминали, как о светлом, но невозвратном прошлом, о первых годах своего знакомства, когда они часто встречались и вели бесконечные беседы об. искусстве. В начале 40-х годов в Риме появляется новый человек, который быстро сближается с Ивановым и на много лет занимает в его сердце место лучшего, доверенного друга. Летом 1842 года, когда Иванов, по своему обыкновению, находился за городом и занимался пейзажем, в его римскую мастерскую явился один из путешествующих русских людей, Ф. Чижов, и благодаря гостеприимству жившего у Иванова молодого художника И. Шаповаленко получил возможность увидеть большую картину, над которой велась работа уже несколько лет. «Явление Мессии» произвело на Чижова самое сильное впечатление, и по возвращении Иванова в Рим он близко сошелся с ним.
В прошлом профессор математики в Петербургском университете, Чижов одно время занимался переводами книг по литературе, но, попав за границу, горячо увлекся искусством. Человек это был общительный и живой. В Мариенбаде он виделся с Жуковским. Позднее в Париже подолгу беседовал с Мицкевичем. Чижов был даровит, склонен к увлечениям. Ему легко давалось все, за что бы он ни брался. Он хорошо знал иностранные языки, был широко начитан, но долго не мог найти своего призвания. В Риме он усердно изучал трактаты Винкельмана как признанного авторитета в вопросах искусства, но сам судил об искусстве как дилетант. Со своей неизменной восторженностью он беспрестанно повторял себе, что цель его жизни «служение истине и России», но почему-то все свои силы направил на трудное, «непосильное» для него дело создания истории средневековой Венеции, погибал в архивах и никак не мог довести до конца своего начинания.
Этот человек, в котором причудливо перемешаны были черты Обломова и Рудина, оказался на жизненном пути Иванова. Замкнутый и недоверчивый к большинству других людей, Иванов быстро сошелся с Чижовым, привязался к нему и стал общаться с ним с редкой откровенностью.
Иванова подкупали начитанность и образованность Чижова. «Человек не нынешней доброты», — говорил он о нем. Со своей стороны, Иванов приохотил Чижова к искусству и вместе с тем пробудил в нем интерес к византийской и древнерусской живописи. Уже много позднее из Киева Чижов писал своему другу в Рим об открытии софийских мозаик. Нельзя сказать, чтобы Чижов научился глубоко разбираться в вопросах искусства, но осведомленность его была Иванову очень кстати. Чижов сообщал художнику о новинках иностранной литературы, вроде работы Рио о средневековом искусстве, переводил для него отрывки из — книги итальянского искусствоведа Чиконьяра. Чижов знакомил Иванова со стихотворениями А. С. Хомякова. По вечерам, когда в мастерской художника встречались соотечественники, здесь распевали народные песни, которые на чужбине особенно хватали за сердце своими задушевными нотами.
Несмотря на то, что Иванов был целиком поглощен своей работой над «Явлением Мессии», он все же находил в себе силы постоянно думать о судьбе русских художников. С большим волнением он прислушивается к поступающим сведениям о том, что в Москве основывается художественное училище. Ему, который испытывал такое отвращение к казенщине и рутине в Петербургской академии, казалось, что именно это новое учебное заведение станет живым рассадником русского национального искусства. Он горячо ратует за то, чтобы в этом новом учебном заведении преобладали русские художники.
Свои выполненные еще в Петербурге картоны с «Венеры Медицейской», «Боргезского бойца» и «Лаокоона», эти замечательные образцы академического рисунка, он поручает передать во вновь открывающееся Училище живописи и ваяния (где они действительно и хранились до недавнего времени и оттуда переданы были в Третьяковскую галерею). Он заботится о пополнении учебно-вспомогательных собраний училища, в частности хлопочет о том, чтобы были приобретены копии с итальянских фресок немецкого художника Рамбу, рекомендует приобрести и картоны Корнелиуса, которые превосходят его законченные с помощью учеников росписи.
Однако добрые намерения художника разбивались, как о стену, о чиновническое равнодушие людей, от которых зависело их осуществление. У самого же Иванова не было никаких материальных средств, чтобы выполнить хотя бы небольшую долю того, что он хотел сделать ради успехов и процветания русского искусства.
Материальное положение художника становилось на протяжении 40-х годов все более стеснительным и тяжелым. Свободные поля многих его рисунков испещрены стройными столбиками цифр расходов, напоминающих о презренной прозе. Траты его на себя были небольшие: комнату в Риме можно было нанять за пять-шесть скудо в месяц. (Скудо равнялся тогда полутора русским серебряным рублям.) Обед обходился около пятнадцати-двадцати скудо в неделю. Невзыскательность Иванова в быту была беспримерной и давала повод товарищам то добродушно, то ехидно подсмеиваться над его «вечной крылаткой». До какой степени он ограничивал себя, можно судить по тому, что даже почтовые расходы стесняли его: письма Иванова написаны мелким бисерным почерком с заполнением малейшего свободного поля листа. В тех случаях, когда письмо из России было тяжелее положенного веса и художнику приходилось платить за излишки четыре-пять франков, он с беспокойством сообщал об этом своим корреспондентам. Бережливость в мелочах многим казалась недостойной художника скупостью. Но как бы он ни ограничивал себя, денег всегда не хватало. Творчество поглощало все его скромные средства. Огромная студия стоила тысячу двести рублей в год. Натурщикам приходилось платить по пяти рублей в день, и это составляло около полутора тысяч в год. В старых римских дворцах, где помещались тогда банкирские конторы, можно было часто видеть странную фигуру русского живописца в его черной крылатке и в широкой, надвинутой на уши шляпе, который по многу раз безуспешно наведывался о денежных переводах, а когда они, наконец, приходили, огорченно разводил руками, так как вместо ожидаемой суммы ему доставалась лишь малая часть, которой едва хватало на покрытие долгов.