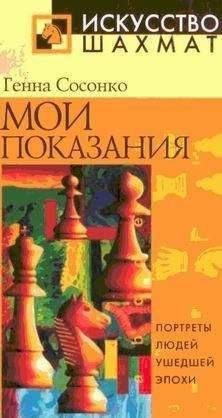Я часто стоял, опершись о широкий подоконник, и глядел на уходящую вдаль линию Невского проспекта, из-за спины доносились привычные звуки: детские голоса, выстрелы от переключения часов, стук сбитых фигур. Или выходил покурить, дверь рядом вела в приемную, где сидела очаровательная Ирочка — секретарша директрисы Дворца Галины Михайловны Черняковой. Наконец время подходило к восьми, клуб постепенно пустел, и, если другие тренеры тоже уходили, Владимир Григорьевич говорил мне: «Ну что, Гена, не пора ли нам пора?» Мы тушили роскошную люстру, дважды проворачивали огромный ключ и шли к замечательной мраморной лестнице бывшего царского дворца, которая немало видела на своем веку. Спускаясь по ней, мы проходили мимо большого панно: пионеры в красных галстуках смотрят восторженно на Жданова — одутловатое лицо, усики, френч с большими карманами. Дворец пионеров носил тогда его имя, равно как и университет, который я закончил. Было бы логично, если бы я и жил в Ждановском районе, но это было не так, я жил в Дзержинском. Нередко нас встречали родители или бабушки, чтобы поинтересоваться успехами детей или просто спросить, не шалит ли ребенок. Самых маленьких ждали внизу несколько часов перед гардеробом: зачастую дорога домой была неблизкая, и не имело никакого смысла возвращаться, чтобы через полчаса снова собираться в путь, время же тогда не стоило ничего.
Владимир Григорьевич всегда давал несколько копеек старушкам-гардеробщицам и непременно называл их по имени-отчеству
— Марья Гавриловна или Варвара Тимофеевна. Зимой помню его всегда в одном и том же черном пальто с потертым воротником, в руках у него был коричневый портфель, тоже видавший виды. Перехватить десятку до получки — часто встречавшееся тогда явление — было знакомо и ему. Мы выходили на Фонтанку и шли к Аничкову мосту, болтая о том о сем. Вижу хорошо один такой весенний вечер, когда, вступая на мост и продолжая разговор о ком-то, он произнес: «Ты знаешь, Гена, я никогда не ругаюсь, но об этом человеке могу сказать только, что он... нет, ты слышал от меня хоть когда-нибудь одно бранное слово?» Я отрицательно мотал головой. «Нет, ты меня очень извини, но человек этот...» Спустившись с моста, мы поравнялись уже с замечательной красоты дворцом Белосельских-Белозерских, где тогда размещался Куйбышевский райком партии. Владимир Григорьевич еще раз оглянулся, чтобы его не мог услышать случайный прохожий, и тихо произнес: «Человек этот — говно». На углу Невского и Владимирского наши пути расходились: он садился в трамвай, чтобы ехать домой, я же переходил на другую сторону Невского, не зная еще, повернуть ли направо — в направлении дома или налево - в сторону Садовой и Чигоринского клуба. Вечер еще только начинался, и неизвестно было, как и когда он кончится.
У Зака было немало знакомых в научном мире. На протяжении долгого времени он руководил шахматным кружком в Доме ученых. Сам он закончил Институт киноинженеров, но никогда не работал по специальности и, мне кажется, испытывал пиетет ко всем этим профессорам и ученым, собиравшимся раз в неделю в особняке на Неве и под его руководством разбиравшим партии или игравшим в турнирах. Шахматы были для них не только любимой игрой, которой были отданы детские или юношеские годы, но и средством уйти в другой мир, без собраний, политинформаций, юбилеев и коллективных писем протеста или в защиту, которыми была пронизана вся жизнь тех времен.
В январе 1972-го, моего последнего года в России, мы были вместе в Чернигове на всесоюзных юношеских соревнованиях. Темы разговоров за ужином были обычные: X никак не может избавиться от цейтнотов, разочаровывает Y, а вот Z, наоборот, сильно прибавил. Изредка, когда заходила речь о жизни самой, Владимир Григорьевич вздыхал: «Вот если бы был жив Ленин, всё было бы по-другому» — точка зрения, довольно распространенная тогда у людей его поколения. Я слушал и не слушал его — моя собственная жизнь была занята уже другим: через несколько месяцев я подал документы на выезд из Советского Союза.
Мы встретились за несколько дней до общего собрания, где все должны были осудить мой поступок, бросающий тень на весь Дворец пионеров, и гуляли долго неподалеку от его дома. Я избегал тогда говорить в помещении по причине, понятной каждому, кто жил в те времена в СССР. Зак сразу сказал, что на собрание не придет, как не пришли, кстати, и другие шахматные тренеры, мои коллеги. «Ты представляешь себе, что тебя ждет, если тебе не разрешат уехать?» — спрашивал он. Ему было тогда почти шестьдесят, и он хорошо знал, чем могут кончиться подобные эскапады по отношению к государству. Никогда нельзя было предвидеть, сколько продлится процедура ожидания визы и во что это всё вообще выльется. Более поздний пример Гулько, проведшего в отказе семь лет, — тому свидетельство. Прощаясь, Владимир Григорьевич сказал: «Чтобы там ни случилось, Гена, желаю тебе счастья» — и не то чтобы обнял, а как-то наклонился ко мне. Банальные слова, конечно, но для него и немалые, вероятно, потому и запомнил их. Это был последний раз, когда я видел его.
Контакта у нас не было до конца 80-х годов, хотя я и знал, что он продолжает работать во Дворце: что-то доходило и до моего голландского далека. Стал гроссмейстером и чемпионом Европы среди юношей один из его учеников — Александр Кочиев, которого помню худеньким мальчиком с рыжей шевелюрой, уже тогда отличавшимся философским отношением к жизни и замечательным умением играть блиц. Он вспоминал позднее: «Был Владимир Григорьевич тренером высочайшего класса, хотя и до определенного уровня, но и характер имел тяжелейший». Хорошо помню и другого его ученика — симпатичного пухлого мальчика с пионерским галстуком. Сверстники называли его Ермолой, и он не мог знать еще, что через четверть века будет играть на первой доске за сборную Соединенных Штатов. Знаю, что уже после моего отъезда у Зака занимались и Валерий Салов, и совсем маленький Гата Камский. Но в конце концов он должен был уйти из Дворца, где проработал более сорока лет. У него испортились к тому времени отношения с коллегами, некоторые из них были в прошлом его учениками. Они имели уже собственных учеников, собственные амбиции и представления о тренерском процессе. Повторюсь: Владимир Григорьевич был человеком, что называется, строгих правил и, ежели говорил: «Я так считаю», это звучало так, будто это и есть единственно верное мнение. Было ему к тому времени семьдесят три, возраст, что и говорить, больше располагающий к размышлению о бренности всего земного, чем к показу тонкостей гамбита Шара — Геннинга. Но он просто не мог оставить дела, которому отдал всю жизнь, досуг мог стать опасен для него, и вряд ли он смог бы обрести покой в праздности.