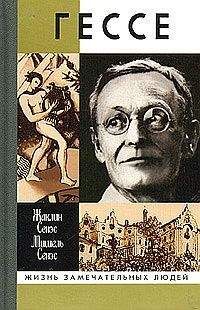Нужно было видеть Финка! Нужно было идти с ним по улице, слышать, как он смеялся у стойки бара, чтобы оценить его вполне. Он был выше Гессе, его широкие плечи борца выдавались под курткой. На детском подбородке красовалась ямочка. У него были четко очерченные губы, нос украшали модные очки. Герман в своих простеньких очках учителя, с серьезным лицом и строгой прической, совершенно потерялся бы рядом с другом, если бы не внимательный, одновременно сумеречный и блистающий взгляд его зелено-голубых глаз. Этот взгляд никогда не простят Гессе — он приводит в замешательство, захватывает, ранит: эта серьезность, притаившаяся в самой сердцевине зрачка, это колебание на краю обрыва в собственную душу, этот отказ от покоя!
С Германом дружат. Признают его оригинальность. Теперь Герман имеет то, без чего раньше так тосковал, — товарищеское окружение, ощущение братства с единомышленниками. Он печатает в каждом номере «Фуае дю поэт» как минимум одно стихотворение, а в октябре другой поэтический журнал долже н опубликовать несколько его песен. Финк, который сам рисует и пишет стихи, считает Гессе лучшим из своих друзей — мюнхенских и берлинских писателей — и настойчиво предлагает рекомендовать его Карлу Буссе, директору берлинского издательства. Ученик книготорговца наконец обретает уверенность, открыто высказывает свои поэтические взгляды. К ним присоединяется третий товарищ — Оскар Рупп, юрист, — и они теперь встречаются регулярно раз в неделю. «Я счастлив, что обрел это окружение, безопасное, побуждающее к мысли», — пишет Гессе матери.
Мария не знает поэзии, кроме пиетистской, выражающей в барочных традициях религиозную идею всеобщего единства. «Я не люблю резко высказываться в щекотливых вопросах, но, честно говоря, все безвкусные немецкие и французские пасторали последнего и предпоследнего века — золото по сравнению с унылостью этих церковных песен…» — пишет Герман. Иоганнес не удостаивает вниманием специально ему посланный номер «Фуае дю поэт», который, по его словам, «не содержит ничего, что он мог бы оценить». Молодой поэт метко парирует: «Простите меня! Но религиозный лиризм — это, прежде всего, протестантский и пиетистский религиозный лиризм, это изначально что-то трагикомическое!» Когда Мария утверждает, что «песни Герхарда или Терстеегена принесли в мир больше блага, чем произведения Гёте, Шиллера и Шекспира», Герман готов противоречить, но отец прерывает его на полуслове: «Понимать или не понимать друг друга это частный вопрос. Кто понимает самого себя? Главное, проявлять терпимость и уметь любить друг друга». Мягко произнося это, Иоганнес думает, что завершил спор с сыном. На самом деле он только углубил разделяющую их пропасть. Мария, пытаясь понять своего романтичного ребенка, плакавшего над Мёрике, пишет ему тайком: «Твой мир не так чужд мне, как ты думаешь».
Но Герман прерывает отношения с семьей. Он уже пренебрегает знакомством с Гриллями и больше не посещает Хаерингов: «Такого рода светские обязанности меня угнетают». Он безжалостен к этим «филистерам», этим буржуа, зажатым в рамки обыденности, и осудил их навсегда. Если он выглядит в их глазах «мужланом», то при новых своих друзьях он тщательно следит за собой, демонстрируя артистический стиль и повадки денди.
Пришел сентябрь. Над городом навис туман. Деревья роняют свои плоды на холодеющую землю. Вечера еще светлы. Для Швабии и суровых стран Северной Германии сентябрь — месяц праздника Седан. На древки знамен наматывают плющ, готовят пироги. Вечером на холмах, у прибрежных скал жгут костры. Для Гундертов из Кальва и для балтийских предков Гессе это время всегда было поводом для разного рода почтенных церемоний в церквях и залах городской ратуши. Когда последние гимны утихали, старик Гундерт возвращался к своим любимым цветам — астрам и хризантемам, — а доктор из Вайссен-штайна — к своей трубке и неспешному созерцанию ясного неба с парящими чайками.
Будет ли Герман в этом году жечь бенгальские огни и насмехаться над прохожими, сидя за стаканом вина в беседке из перевитых виноградных лоз? Его одолевают детские воспоминания, он гонит их, чтобы отдаться только что охватившей его любовной горячке. Элиза была теперь не единственной гостьей его грез. В воображении Гессе вырисовывались еще два поэтических женских образа — фрау Гертруда и Мария. «Обе долго занимали мои мысли, — напишет он в начале следующего лета, — одна сильная, заметная, цветущая, другая бледная с тонкими руками. В них обеих, при всей их противоположности, заключена для меня красота, в обеих есть след Беатриче Данте».
Из своих трех идеальных подруг он выбирал одну: «Когда она приходила, горели свечи, и она пела вместе со мной дуэт. Я стоял за ней… и думал, что было бы замечательно украсить цветами ее волосы». Эта фантастическая женщина была средоточием его ностальгических настроений, символом счастья. Говоря с ней, он «…каждый раз обнаруживал в голосе, в речи и образе мысли своей подруги отголосок вечной женственности, вызывавший у него горячее и нежное чувство».
Предчувствовал ли Герман возможность взаимности? Получала ли ответное пожатие робко протягиваемая им рука? Был ли он уверен, что где-то существует та милая и добрая девушка, которая способна любить и избавить его от страхов, обладающая редким умением радоваться и понимать? Та подруга, которую он сможет пригласить в свой поэтический сад и которая будет смотреть ему прямо в глаза без презрения?
В конце ноября 1897 года он получил письмо: «Ах! Что скажешь, когда кто-то несколькими словами затрагивает в нас струну, которая потом долго-долго вибрирует? И тогда все время оборачиваешься и прислушиваешься к этому глубокому звуку, исполненному мистического очарования. Это состояние настолько трудноуловимо, его природу трудно постичь… Может быть, поэт лишь пожмет плечами на письмо молодой девушки, давшей ему руку и замолчавшей?» Внизу стояли подпись некой Елены Войт и вчерашнее число, письмо было отправлено из северной области Мариенгофф. Четыре дня листок оставался на столе Гессе. Четыре дня он размышлял над ответом, живость которого удивляет: «Моя глубокоуважаемая мадемуазель, большое спасибо! Я сидел, устав от работы, рядом со своим другом. Это неизвестный артист, он играл для меня на скрипке старинный и простой гавот, а я думал о вас, то есть о тех немногих, которых я хочу видеть своими читателями…» Потом прорывается болезненная нотка: «Я так мало привык к дружбе и к милостям. Ваше письмо доставило мне радость». И рассудительно: «Я шлю вам привет, вам и Северу. Я прибалт по крови и люблю Север, его пейзажи и его людей. Подумайте обо мне, слушая Шопена — „Баркароллу оп. 60“ или „Ноктюрн оп. 62“».