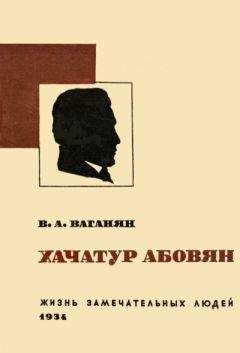Но «Раны Армении» имеют великое значение не только своим идейным багажом. Демократические воззрения Абовяна раскрываются не только в монологах и проповедях романа, но и в художественно-формальных особенностях его. Основная интрига, героический сюжет и общее настроение соприкасаются с «Разбойниками» Шиллера. Более того, образы Абовяна построены под сильнейшим влиянием Шиллера: его Агаси имеет много общих черт не только с Моором, но и с Теллем.
Восторженный романтизм Абовяна значительно разбавлен чувствительностью мещанской литературы. Рядом с героическим Моором перед Абовяном несомненно стоял образ Вертера. Все это глубоко освоено, основательно перекроено и сконструировано наново на национальном материале.
Приправленный образами, взятыми из детских воспоминаний, фольклорным творчеством, собранным у стариков и сказителей, неисчерпаемыми богатствами народной речи: грубоватой, смешанной, но почвенной и образно, с подлинно восточной пышностью обставленный описаниями природы, обычаев, быта и добродетелей своих героев, — роман Абовяна с легкой иронией описывает мужицкую масленицу, гневно осуждает невежество, с подлинным лиризмом воспевает любовь и страдания двух влюбленных. Книга «Раны Армении» и по сей день оставляет глубочайшее впечатление, несмотря на старомодное многословие и риторику, несмотря на скудность понятий, несмотря на значительную неясность социальных перспектив автора.
«Раны Армении». Идейные срывы
«Раны Армении» созданы гениальным человеком. Я говорю — гениален Абовян, а не его произведение, потому что совершенное произведение отмечает новую веху определенностью своих устремлений и тем, в какой степени отражает оно идеи и программу передового общественного класса.
С этой точки зрения роман Абовяна имеет чувствительные изъяны и провалы, которые делают его пестрым по своему идейному составу.
В основной струе романа уже с самого начала есть прожилки нефильтрованной старины, а попутные идейные ручьи явно мутны и носят на себе следы всенивеллирующего оппортунизма и социального приспособленчества.
Самая навязчивая из всех — идея религиозная. Абовян относился резко критически к церкви, но он верил, и это было ахиллесовой пятой его демократизма.
Были попытки связывать своеобразие религиозных воззрений Абовяна с протестантизмом. Однако нет ничего более нелепого, чем такая попытка. Источник религиозных мыслей Абовяна нужно искать не у Лютера, а у Руссо, у Савойского викария.
Достаточно бегло прочитать антиматериалистическую «Исповедь», чтобы понять, откуда черпал свои взгляды Абовян и чьи мысли он вложил в уста Агаси. Не лютеранство, а взгляды Руссо сквозят в его религиозных рассуждениях, в его критических нападках на попов и церковные обряды. Поскребите немного абовяновского бога, который не менее Агаси является героем «национального дела», и вы получите рационалистическое Верховное существо Савойского викария.
Бог у Абовяна — экзальтированный романтик, бог у Лютера — сухой, степенный, размеренный хранитель устоев буржуазного порядка, между ними нет ничего общего, кроме идеалистической религиозной оболочки.
Гораздо интереснее то, что Абовян хотел метод Савойского викария применить к армяно-грегорианской религии. Однако, ему так же мало посчастливилось, как и Руссо. Савойскому викарию не удалось из кусочков разгромленного материалистической и рационалистической критикой католичества сконструировать новую религию разума. А что касается Абовяна, то он, намереваясь освободить «религию» от опорочивающих ее церковно-поповских традиций и обрядов, для превращения ее в религию национального освобождения, фактически сыграл на-руку клерикальным мракобесам. Для критики религиозных основ у него не хватило сил, а вдохновенные декламации только шли на пользу и укрепление церкви.
На французской раскаленной почве проповедь Савойского викария подверглась значительной социальной дезинфекции и в эпоху революции вылилась в грандиозную мелкобуржуазную мистификацию Робеспьеровской религии Верховного существа, а на болотных топях армянской отсталости идеи Руссо мелькнули беспокойными блуждающими огнями и были поглощены беспросветной мглой и гнетущими заботами — в этом разница и она обусловлена различием ступеней, на которых стояли страны, — производящая передовые идеи и другая — их воспринимающая.
Национальная идея — буржуазная идея, она буржуазно-демократическая идея когда противостоит феодальной сословности и провинциализму, но она в самой себе носит семена национальной исключительности, самомнения и мессианизма. Мы всех этих черт у Абовяна не найдем в «Ранах Армении», он вовсе не думает сделать армян вожаками человечества, он знает степень их отсталости и ставит себе задачей привести их в лагерь культуры.
Но, уязвленный пренебрежением других, он весь охвачен идеализацией национального прошлого: он приемлет всю сумму былых варварств, готов беспрекословно нести ответ за все величайшие преступления духовных вандалов и феодальных головорезов, деспотизма мелких сатрапов, произвола и жестокости отечественных палачей народа. Тут национальная идея перехлестнула через край, пышно взошла на страстях Абовяна и обнажила ранее срока ядовитые шипы национализма.
Совершенная культура заключалась даже для просветителей не только в приобретении знаний самим и в передаче его другим, но и в освобождении из-под гнета прошлого. Кто хотел вести свой народ вперед, должен был разбить те кандалы, которыми прошлое заковало народ, те колодки, которые угнетали его сознание, — надо было просвещать его прежде всего относительно его прошлого. Кто не видит подлинных пропорций в прошлом, тот не сможет найти правильный путь в будущее.
Отмеченный недостаток весьма велик, он проводит глубокую линию раздела между нами и романом Абовяна с его непоследовательным демократизмом.
Но даже национал-каннибальские страницы «Ран Армении» имеют особый колорит, отличающий их от национал-каннибализма последующих лет. То, что, мы знаем о совместной работе Абовяна и Мирза-Шафи[12] над созданием тюркской литературы достаточно, чтобы предостеречь нас от приравнивания Абовяна к какому-нибудь национал-мессианисту Раффи[13] или национал-каннибалу Агароняну.
Это — птицы разных полетов!
Воистину, орлу случалось ниже кур спускаться, но курам до орла никогда не добраться.
Я выше говорил о природе русской ориентации, о социальных корнях этого явления, отметил уже все недемократическое, антидемократическое и политически недодуманное в этой позиции. Однако будет крайне несправедливо по отношению к памяти крупного демократа не принять в расчет того, что он был не только романист, но и очевидец описываемых им событий, он находился в этом потоке крестьянских переселений с места на место. Доля ответственности за русофильство ложится здесь на историческую реминисценцию, на ретроспективно отраженное воодушевление, охватившее мелкую буржуазию.