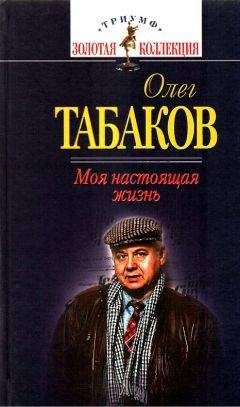Театр — удивительно жестокое место работы. И чем дольше живешь, тем острее понимаешь, что, кроме таланта, кроме способностей, в судьбе артиста должен присутствовать и некий фарт.
Лиля Толмачева — человек нежный. Она была бы идеальной исполнительницей роли Аркадиной, но не в той трактовке, которая, скажем, существовала в первой постановке у Олега Николаевича Ефремова. Не считая себя режиссером, я хотел бы поставить этот спектакль именно с ней. Слова «Я — актриса, а не банкирша!» чрезвычайно выражают ее суть.
Может быть, я так чувствую и понимаю ее еще и в силу схожести наших психологических складов. Иногда получались смешные совпадения, когда нечто, происходившее в театре, вызывало у меня появление мыслей, которых я стыдился, покрывался красными пятнами, но при взгляде на Лилю, точно так же покрывающуюся красными пятнами, я понимал, что ее тайные мысли очень похожи на мои.
Лиля всегда и во всем была человеком непосредственным и открытым: на заседаниях Правления театра она иногда бывала столь откровенна, наивна и целомудренна, что могла сказать примерно следующее: «Вот этот дурак, я не буду называть его фамилию, хотя это председатель Правления…» — имея в виду Олега Николаевича Ефремова. Полагаю, впоследствии она об этом сожалела, но обижаться на ее милую непосредственность или заподозрить в какой-то заданности было трудно.
В семидесятом году, в первые дни моего директорства в театре «Современник», мы с Лилей поднимались по лестнице Главного управления культуры Моссовета. И она со свойственной ей непосредственностью и участием говорила мне, почти крича: «Господи, да за каким чертом тебе это нужно, Лелик!» Наверное, Лиля имела в виду, что артиста необходимо холить, лелеять, ублажать, баловать, награждать. А я вместо этого взвалил на себя директорский крест…
О Лиле можно добавить, что она очень смешлива и азартна. Не однажды я ее доводил своими розыгрышами во время спектаклей до состояний, при которых ей надо было срочно покинуть сцену, дабы прийти в себя от душившего ее хохота и продолжать «борьбу» со мной.
Едва не самым значительным Гражданином в правлении Студии молодых актеров был Игорь Кваша. Гражданские воззрения, гражданские симпатии и антипатии, нетерпимость к тому, что составляло антитезу «нашим гражданским устремлениям» были наиболее часто озвучиваемы именно им. Я очень часто думал: «Что ж такое, почему я не поспеваю за этой мерой гражданской смелости?» — и достаточно саркастически называл Игоря Квашу «гражданином-террористом». Когда он играл Шурика Горяева в пьесе «Два цвета» Зака и Кузнецова, было непонятно, кто, собственно, кого терроризировал — бандиты его или он бандитов. Но это уже издержки художественных качеств данной роли. Кваша, одаренный характерный и по-настоящему хороший драматический актер, разнообразно и талантливо играл и в «Вечно живых», и в «Чудотворной», и во многих других спектаклях нашего театра. Без Игоря я с трудом представляю себе «Современник».
Очень легко вычисляется время, когда зарождался наш новый театр. Мы пришли в жизнь вслед за XX съездом партии, где Хрущев рассказал дозированную правду о преступлениях Иосифа Сталина, и как часть обновления культурной, общественной и социальной жизни страны появились «Новый мир» Твардовского, произведения Овечкина, Яшина, Дудинцева, Тендрякова, стихи Алигер, публикации Ахматовой.
Людям всерьез казалось, что Сталин — это бяка, а Ленин — хороший, и если нам удастся «плыть под Лениным» и дальше, то это, собственно, и будет продвижение к коммунистическому далеку. Вера в эти мифические возможности была удивительной, как всегда у людей в том случае, когда они обладают только полузнанием, частью знания.
У Студии молодых актеров был «коллективный директор», коллективный руководящий орган, и назывался он Правлением, а временами — Советом. В этот орган меня кооптировал Олег Николаевич Ефремов. Я стал заниматься административными вопросами почти сразу после того, как написал заявление и был принят на работу с окладом в 690 рублей. Хотя мне тогда и не исполнилось двадцати одного года, и я еще не достиг права быть избранным в Верховный Совет СССР, членом Правления театра я уже стал, в меру старания и разумения занимаясь самыми разнообразными делами. Оформление деловых взаимоотношений с Художественным театром, через бухгалтерскую систему которого нам выплачивалось денежное вознаграждение, московская прописка для меня и Евстигнеева — все это были конкретные дела, может быть, требующие не бог весть каких «семи пядей во лбу», но для молодого человека творческой профессии довольно интересные и необычные.
Затем начались вполне рутинные будни.
Почти одновременно с тем, как в репертуар после чтения на труппе уже была принята пьеса Виктора Розова «В поисках радости», Миша Козаков принес пьесу Галича «Матросская тишина». Пьеса произвела на студийцев сильнейшее впечатление. В связи с этим значительная часть труппы подвергла сомнению целесообразность принятия в репертуар пьесы Виктора Сергеевича, отдавая приоритет пьесе Галича, а некоторым, в частности мне, нравилась пьеса Розова — кстати, она продолжает мне нравиться и по сию пору. Решено было ставить обе пьесы.
Мне лет 26. В Советский Союз еще поставлялись югославские сорочки — они были ноские и теплые. Стоили 12 рублей.
Работали мы ни шатко ни валко, как это всегда бывает, когда выпускаются две пьесы в параллель. Какое-то время подготовительная работа над «В поисках радости» была возложена на Сергачева, с молодости тянувшегося к занятиям режиссурой. Занятия эти были не слишком интересными для актеров. Хотя его режиссерский метод и не вызывал ярко выраженного бунта, особых восторгов по этому поводу не ощущалось. Помню, как в одном из этюдов на тему репетируемой пьесы Розов предложил нам стать «едущими на корабле по реке». Каждый должен был определить для себя, где его место — кто в каюте «люкс», кто на палубе, а кто в трюме. Помню, что я все время скакал с этажа на этаж, а Игорь Кваша и дядя Вася, которого играл Евстигнеев, объединялись на почве того, что и тот и другой считали себя «рабочей косточкой», и, распевая «Раскинулось море широко», искали таким образом новые пути в театральном искусстве. Все это долго продолжаться не могло, и настал наконец период выпуска розовской пьесы.
Мой герой был прозрачно понятен мне по жизни.
Играя роль Олега Савина в пьесе «В поисках радости», я даже не осознавал все происходящее в полной мере. Савин совпадал с моей физикой и психикой в каких-то безусловных вещах — и в облике, и в пластике произошло прямое попадание. Полное совпадение тональностей актера и персонажа. Не приходилось размышлять и мучиться над главной проблемой роли — как произносить тот или иной текст. Ничего специально не придумывал, не искал — просто приходил и произносил реплики. Образ был готов задолго до выпуска спектакля. Он был во мне. Он и был я. Требовалась лишь мера безответственного риска, что, конечно, тоже немало.