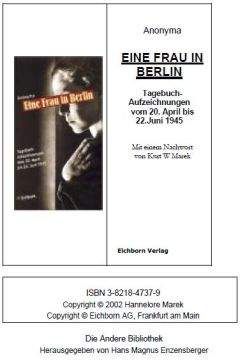Среда, 9 мая 1945 года.
Сегодня была ночь, которая должна была принести что-то новое. Теперь ничего нет, и писать нечего, кроме того, что я их прожила. Впервые одна между моими простынями с 27 апреля. Майора и Узбека нет. Вдова опять начала опасаться за свое существование, она квакала про исчезающее масла, и что было бы хорошо, если бы майор принес поскорее новые запасы. Я только смеялась. Он вернулся. Ночь пролежал, приятно растянувшись между моими свежевымытыми постельными принадлежностями, потягивался на меня, спал хорошо и проснулся бодрым. Мыл меня теплой водой, которую вдова пожертвовала мне, надевал на меня чистые вещи, насвистывал мне что-то.
Так я писала в 9 часов. Теперь уже 11, и все выглядит по-другому.
Снаружи вызвали нас с совками для мусора на улицу. Мы сгребали лопатой кучу почвы на углу, везли обломки и навоз лошадей на тачке к близкой руинной территории. Древняя известь и железный лом еще с воздушных налетов, свежие артиллерийские обломки наверху, и тряпки и банки и много пустых бутылок. Я нашла 2 красивых открытки из бромистого серебра, немецкий фабрикат - и голую с множеством отпечатков большого пальца на ней.
Мне вспомнились, как я читала немецкие и американские журналы несколько минут однажды в Московском офисе. Если их кто-то брал, потом я обнаруживала уже при более позднем чтении, что и тут и там кусок страницы был поспешно вырван - реклам женского нижнего белья, поясов, чулок и бюстгальтеров. Такие объявления не знают русские. Их журналы без сексуальных картинок. Вероятно, эти нелепые рекламные фотографии, на которые, пожалуй, не взглянет ни один западный мужчина, более чем достаточно для русского глаза, они для них были самой настоящей порнографией.
Для этого у них есть воображение, которое там имеет каждый мужчина. У них подобное не положено. Вероятно, зря. Они могли бы населить свою фантазию идеальными фигурами и больше не бросились бы на любую старуху. Нужно обдумать это.
Когда я поднималась на глоток солодового кофе в квартиру около 10 часов, майор уже был там. Он ждал меня, чтобы попрощаться. Так как его колено выздоравливает, он получил 2 месяца отпуска, которые он должен провести в солдатском доме около его родного города Ленинграда. Уже сегодня он отъезжает.
Он очень серьезен, почти строг, постоянно сдерживает себя. Подробно он пишет себе мой адрес на листок, хочет написать мне, хочет оставаться со мной в контакте.
Я не могу дать ему мою фотографию, о которой он просит, так как у меня нет. Мое все сфотографированное прошлое, собранное в альбоме и толстом конверте с запретным, сожжено. Новых фото у меня не было с тех пор. Долго он смотрит на меня, как будто бы он хотел сфотографировать меня глазами. Целует меня тогда по-русски в обе щеки и тяжело ступает, стараясь не оглядываться и хромая наружу. Мне немного больно и пусто. Я размышляю о кожаных перчатках, которые он продемонстрировал сегодня впервые. Он держал их элегантно в левой. Один раз они упали, он поднял их поспешно, все же, я увидела, что это были 2 разные перчатки - со швами на тыльной стороне кисти руки одна, а другая - гладкая. Он пытался, чтобы я не увидела. В ту секунду я очень любила его.
Снова наружу, на улицу, я должна идти на уборку. Позже мы хотим пойти поискать древесину, нужно топливо для плиты, которая используется мною на гороховые супы. Причем, на меня обрушивается сознание того, что теперь никто не принесет еду, свечи и сигареты. Я должна дать понять это вдову осторожно, когда она вернется от колонки. Паули я совсем ничего не сказала. Ему сама вдова может пояснить положение дел.
В поиске дров я иду впервые за 2 недели на лужайку перед кино, на которой погребают теперь мертвецов из нашего квартала. Между глыбами обломков и воронками от разрыва снарядов - 3 двойных могилы, 3 супружеские пары, три разных самоубийства. Бормочущий старик, который сидел на корточках на камне, рассказал мне с горьким успокоением, все время кивая, о мертвецах: в могиле крайней справа лежит местный вождь отряда нациста с женой (револьвер). В средней могиле, на которой вянут несколько воткнутых веток сирени, подполковник со своей госпожой (Гифт). Старик не знает ничто о супружеской паре в третьей могиле; там кто-то воткнул деревяшку в песок, и там красным карандашом написано «2 мельника». В одной из отдельных могил лежит женщина, которая прыгнула с третьего этажа, когда Иваны ее захотели. Что-то вроде креста, из соединенных 2 кусков белой отполированной частей от двери, наискосок перевязанных проволокой. У меня перехватило горло. Почему этот крест так сильно действует на нас? Даже если мы больше вряд ли можем называться христианами? Ранние детские впечатления возвращались. Я смотрела и слышала фрейлейн Драйвер, как она изображала нам семилетним с бескрайними подробностями и слезящимися глазами страсти спасителя... Всегда есть Бог в кресте для нас по-христиански воспитанных европейцев - он может существовать всего лишь только из 2 кусков начинки двери и немного проволоки.
Вокруг – почва, лошадиный навоз и играющие дети. Можно ли называть это играми? Они останавливаются, щурятся на нас, шепчут друг с другом. Если слышат громкий голос, значит это русский. Поэтому один из них тяжело ступает с занавеской в руке. Он кричал вслед нам оскорбления. Они теперь сами по себе или в группах. Суровые и вызывающе их песни режут нам ухо.
Отдала пекарю 70 Pf за 2 полученных хлеба, мне казалась все очень странным и у меня было чувство, что я сунула ему в руку ему что-то полностью бесполезное, все еще не могу привыкнуть считать наши новые немецкие деньги нормальными деньгами. В доме Эрна пекаря собирала все документы, отмечала в списке имена и число человек оставшихся жителей. По-видимому, скоро появятся новые продовольственные карточки. Эрна нарядила себя и приближалась в расписанной цветами лета одежде - необычный вид, после того, как 14 дней все женщины осмеливались выходить наружу только как свиньи. Также и у меня на душе после этой новой одежды. Еще не понимают, что уже никакой русский в наши двери больше не постучит, никто не растянется больше на диване или в кресле. Я основательно убрала комнату, нашла под кроватью маленькую советскую звезду из красного стекла и презерватив в бумажной упаковке. Кто потерял его, я не могу понять. Я вовсе не знала, что они вообще знают что-нибудь об этом. Во всяком случае, они не утруждали себя использованием их по отношению к немецким женщинам.
Они взяли с собой граммофон, а также рекламный диск текстильной фирмы («... для жены, для ребенка, у каждого было кому...»). А 43 классических музыкальных диска, от Баха до Пфицнера, и половина Лоэнгрина по-прежнему остались нам. Также разбитая Анатолем крышка осталась, благодарно сожгли мы ее в плите.