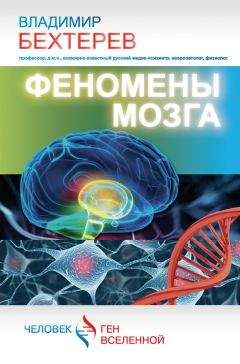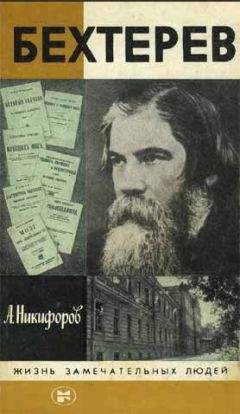усиливали отточенность манер и природный аристократизм, чем вятский уроженец с напевным северным выговором никогда не обладал и чем не мог не восхищаться. В молодом подпольщике не было нечаевского нигилизма и жестокости, он имел впечатлительную душу, умевшую ценить изящные вещи, и Маша целиком захватила его воображение, он засыпал и просыпался с ее милой улыбкой, воображая себя ее рыцарем и даже не думая о том, подходят или нет они друг другу.
«Романтик революции за осклизлой кашей будней должен видеть радугу грядущего», — втолковывали ему беззаветные левые социал-демократы и учили, как уходить от слежки. И еще он запомнил: «Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики». Фразу привезли из-за границы и, цитируя ее, прибавляли: «Он прав». Фраза запомнилась. Костриков завоевал Машу своей энергией и напором. После чего успокоился и целиком отдался революции.
В семье Маши Маркус революционеров чтили. Старшая сестра Соня уже вела подпольную работу, а Соня для Маши была непререкаемым авторитетом. Худенький, чуть пониже ее ростом, смешно растягивавший окончания слов революционер Сергей ей немного нравился, и она согласилась выйти за него замуж, потому что Соня сказала: это лучше, чем твой Вигель, а кроме того, в провинциальном Владикавказе не так просто найти хорошего жениха. Вигель был бароном, наследником богатых шляпников, купившим себе титул за деньги, и он вовсе не собирался делать Маше предложение. Он изредка приглашал ее и Рахиль прокатиться с ним в коляске и больше посматривал на Рахиль, чем на нее. Соня сумела за месяц внушить Маше ненависть к Вигелю как к представителю паразитирующего класса, гнойному прыщу на теле пролетариата, и Маша стала презирать Мишеньку Вигеля за то, что он не хотел отказываться от своего капиталистического семейства. «Все было глупо, очень глупо», — часто повторяла потом Мария Львовна, сама плохо понимая, к чему относится эта оценка тех дней: то ли к Вигелю, то ли к Кострикову, ставшему потом Кировым. Киров — сокращенное от Кострикова.
Революция отменяла все: буржуазные ухаживания, поцелуи в парадном, прямую спину и лоск манер. Маша выглядела теперь старой, больной женщиной, страдающей бессонницей, которую мучили внезапные приступы мигрени и гормональные расстройства. Мария Львовна чувствовала себя лучше в санаториях под присмотром врачей. Она никогда не говорила мужу, что ее спасала удаленность от него. В санатории не нужно было думать о его ночных посиделках и поездках на охоту с дамами. Время от времени ей докладывали об этом, присылая анонимные письма. Мария Львовна, прочитав их, сжигала, не заводя с Сергеем ссор и скандалов, она не умела ссориться и уж тем более скандалить.
Более того, она во всем винила себя и ценила благородство Сергея. Он ни разу не попрекнул ее детьми, которых она ему не родила, он ни разу не предложил ей развестись, хотя Маша бы поняла столь жестокий его поступок. Она, выросшая в многодетной семье, страдала оттого, что утеряла этот бесценный божий дар материнства, страдала, может быть, даже сильнее, чем муж — дикий зверек, не помнивший родителей и привыкший к одинокой волчьей жизни, когда тебя все время гонят и преследуют. Мария Львовна старалась вести себя благородно, не опускаться до мелочных бабьих перебранок. Она ценила и такие редкие минуты их общения, когда он неожиданно приезжал домой не очень поздно, ужинал и рассказывал ей последние новости.
— Серго звонил, передавал тебе приветы от себя и Зины, — сообщил Киров.
— Как они? — заинтересовалась Мария Львовна.
— Вроде бы отболели, Коба загрипповал…
— Ты ему звонил?
— Завтра позвоню… Надо на охоту вырваться, лесным воздухом подышать! После охоты я месяц работаю как вол и усталости не знаю, — проговорил Киров.
— Конечно, съезди, — одобрила Мария Львовна.
Ее обижало то, что он никогда не звал ее с собой на ту же охоту, хотя и ей не повредили бы лесные прогулки. Но она никогда и не напрашивалась. Однажды, это было в двадцать седьмом, Мария Львовна уговорила мужа взять ее с собой. Он согласился, но все два дня ходил мрачный, точно ему испортили праздник. Он потом так и объяснил ей: женщина на охоте — дурной знак, это занятие сугубо мужское, и лиц женского пола туда не берут. Когда она узнала, что он берет на охоту других дам, Мария Львовна впервые за все годы их совместной жизни испытала сильную душевную боль. Ее не так унижали увлечения Сергея слабым полом, это еще можно было понять и объяснить, но нежелание делить с ней обыкновенные радости бытия укололо Марию Львовну в самое сердце, и она долго, несколько лет, не могла справиться с этой болью.
— Я увидела у тебя на столе книгу Гитлера и взяла почитать, — проговорила Мария Львовна. — Откуда она?
— Коба издал для узкого круга лиц. Он все мечтает подружиться с фюрером, хвалит его ум… — усмехнулся Киров.
— Но этот Гитлер — выродок, ты почитай, что он пишет! — возмутилась Мария Львовна, и красные пятна выступили у нее на щеках. — Он впрямую призывает к завоеванию России и ее окраин. А оголтелый расизм, ненависть к евреям, неужели Сталин и это одобряет?..
Киров хорошо знал, с какой ненавистью в душе Коба относится к евреям, но промолчал.
— Германия еще с ленинской поры считалась дружественной нам державой, — заметил Киров.
— Но тогда у нас не было другого выхода, это был вынужденный мир! Позорный, но вынужденный! — горячо отозвалась Мария Львовна.
Киров не стал ей возражать. Его жена, как и тысячи других граждан СССР, не знала о том, насколько крепки были эти дружественные узы. Еще при Ленине 16 апреля 1922 года во время Генуэзской конференции в маленьком городке Рапалло был подписан договор о восстановлении дипломатических отношений между Советской Россией и Германией и об отказе от взаимных претензий. Но это была лишь видимая часть айсберга. Подводная же заключала секретную конвенцию между высшим германским командованием, рейхсвером и Кремлем, Генштабом Красной Армии. Конвенция называлась «О взаимной технической помощи».
Она закрепила то, что уже совершалось под прикрытием «взаимопомощи», ибо только за один 1921 год из Германии в Россию было вывезено 400 аэропланов, 3 тысячи тяжелых пулеметов, 150 крупнокалиберных минометов, 900 тысяч винтовок, 1 миллиард патронов, броневики и химические препараты. По Версальскому мирному договору Германия могла иметь лишь стотысячную армию и ограниченные вооружения, а также ей запрещалось производить