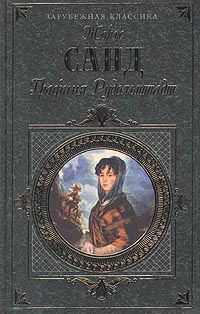И тем не менее эта история повредила репутации Дюма. Мелкие газетенки, всегда придиравшиеся к Дюма, утверждали, будто в «Нельской башне» ему не принадлежит ни строки, что было неправдой. Его враги, а их было немало, – несмотря на всю его доброту, потому что его бахвальство раздражало, а успехи в театре и у женщин вызывали зависть, – изо всех сил старались доказать, что он не написал ни слова ни в одной из своих пьес и что все в них сделано его соавторами. Если так, то поневоле возникает вопрос, почему пьесы Гайярде, написанные им самостоятельно, пользовались самым скромным успехом, а то и вовсе проваливались?
Ворчливый Гюстав Планш писал: «Нам кажется, что господину Дюма, который дебютировал не далее, как в 1829 году, угрожает быстрое забвение». Он упрекал Дюма за желание подменить идеализм классиков низменным реализмом: «Господин Дюма не привык думать, у него поступки с детской торопливостью следуют за желаниями; вот почему Дюма кинулся ниспровергать традиции, не соразмерив ценности того памятника, на который посягает». Обвинение Дюма в реализме кажется нам по меньшей мере странным. Трудно представить себе что-нибудь менее реалистическое, чем его театр. Гораздо точнее будет сказать, как тот же Планш: «Господин Дюма восстановил против себя всех серьезных художников». В начале тридцатых годов «Молодая Франция» считала Виктора Гюго и Александра Дюма создателями современной драмы. «Генрих III и его двор» проложил дорогу «Эрнани», и публика охотно ставила обоих драматургов рядом. После 1832 года люди с тонким вкусом не разделяли больше этого мнения. Гюго вырвался далеко вперед. Сент-Бев, который не отрицал таланта Дюма, говорил: «Да, он талантлив, но талант его скорее физиологичен… В нем, – пояснял Сент-Бев, – больше от вдохновения, нежели от искусства. Все дело в его кипучем темпераменте».
Но разве так уж плохо иметь кипучий темперамент?
Глава вторая
МИРНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ
В 1832 и 1833 годах Дюма ухитрялся делить свою жизнь между Белль и Идой. Первый гад он провел с Белль (Мелани Серре) и жил то в Париже на Орлеанской площади, то в Трувиле, нормандском портовом городке, где он обычно скрывался в гостинице, чтобы иметь возможность работать. Но в 1833 году Ида взяла верх и меблировала для Дюма квартиру на улице Бле (лимонное дерево, звериные шкуры), где правила единовластно. Мирное сосуществование весьма облегчал театр. Обе дамы были актрисами, и Дюма заботился о карьере обеих. В «Анжеле», написанной в 1833 году, играли и мадемуазель Мелани и мадемуазель Ида. «Я хочу, – заявлял Дюма директорам, – видеть на сцене тех театров, которым я отдаю свои пьесы, дарования, которые мне приятны». Пожелание, выраженное весьма тактично.
Ида Ферье, более честолюбивая, чем Белль Крельсамер, требовала от Дюма роскоши, что ему очень импонировало. Дюма уже знал все серьезные недостатки своей любовницы: Ида устраивала по нескольку сцен на день, восстанавливала против него слуг, перехватывала его письма. «Но у нее, – писала графиня Даш, – были искусно подрисованные брови, белоснежная атласная кожа с легким румянцем, коралловые губки и волосы, завитые мелкими локонами а-ля Манчини». Полнота ее к этому времени приняла угрожающие размеры, произношение было отвратительным. Говорила она в нос, будто страдала хроническим насморком. Но она умела принять гостей, и вскоре Дюма стал больше ценить в ней хозяйку дома, нежели владычицу своего сердца. И хотя Катрина и Белль родили ему детей, Иде все же удалось захватить титул первой султанши и даже поселить у себя вдову Ферран, свою мать.
Молодого Александра, сына Катрины, принесли в жертву. К этому времени он перешел из заведения Вотье в пансион Губо. Директор пансиона Проспер Губо был, как мы уже упоминали, другом его отца. На досуге он писал пьесы, участвовал (под псевдонимом Дино) в создании знаменитой драмы «Тридцать лет, или Жизнь игрока» и дал Дюма сюжет «Ричарда Дарлингтона». Умный и образованный, Губо был хорошим воспитателем. Он основал пансион Сен-Виктор на улице Бланш, на том месте, где сейчас находится Парижский театр. При финансовой поддержке банкира Лаффита ему удалось создать процветающее заведение, в котором воспитывались сыновья аристократов, крупных финансистов и коммерсантов. Дюма остановил свой выбор на Губо, потому что знал его по театру. Он, конечно, не мог предугадать, какой прием окажут незаконному сыну белошвейки избалованные, испорченные, высокомерные мальчишки.
Матери нескольких учеников были клиентками Катрины Лабе. От них стало известно, что она не замужем и что ее сын – незаконнорожденный. Дальше стало происходить нечто невероятное.
«Мальчишки, – писал позже Александр Дюма-сын, – оскорбляли меня с утра до вечера, по-видимому, радуясь случаю унизить то имя, которое прославил мой отец, унизить, пользуясь тем, что моя мать не имела счастья его носить».
Когда маленький Александр попытался вступиться за честь матери, товарищи подвергли его бойкоту.
«Один считал себя вправе попрекать меня бедностью, потому что был богат, другой – тем, что моей матери приходится работать, потому что его мать бездельничала, третий – тем, что я сын швеи, – потому что сам был благородного происхождения; четвертый – тем, что у меня нет отца, возможно, потому что у него их было два…»
Ночью ему мешали спать, в столовой передавали пустые блюда. В классе его мучители придумали новую игру – они спрашивали учителя:
– Сударь, скажите, пожалуйста, какое прозвище было у красавца Дюнуа?
– Орлеанский бастард.
– А что значит «бастард», сударь?
Ученик Дюма разыскал слово «бастард» в словаре. Словарь объяснял: «рожденный вне брака». Его палачи зашли настолько далеко, что изрисовали все его книги и тетради непристойными сценами, под которыми подписывали имя его матери. Когда чаша терпения переполнялась, маленький Александр плакал, забившись в уголок. Травля ожесточила характер мальчика и подорвала его здоровье. Он стал мрачным, подозрительным и страстно мечтал о мести.
Этот ад произвел на него неизгладимое впечатление. Всю жизнь ему не будет давать покоя судьба соблазненных девушек и незаконнорожденных детей. Он признавался позже, «что так никогда полностью и не оправился от этого потрясения, что никогда, даже в самые счастливые дни своей жизни, не мог ни простить, ни забыть этой обиды». Как-то на бульваре он встретил одного из своих прежних мучителей; тот кинулся пожимать ему руку «с великодушием человека, не помнящего зла, которое сам причинил». Дюма сурово остановил его. «Любезнейший, – сказал он, – сейчас я на голову выше тебя, и, если ты еще раз вздумаешь заговорить со мной, я тебе все ребра переломаю».